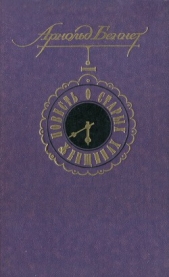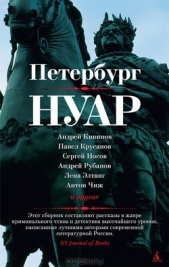Русские женщины (47 рассказов о женщинах)

Русские женщины (47 рассказов о женщинах) читать книгу онлайн
Странное дело: казалось бы, политика, футбол и женщины — три вещи, в которых разбирается любой. И всё-таки многие уважаемые писатели отказались от предложения написать рассказ для нашего сборника, оправдываясь тем, что в женщинах ничего не понимают.
Возможно, суть женщин и впрямь загадка. В отличие от сути стариков — те словно дети. В отличие от сути мужчин. Те устроены просто, как электрические зайчики на батарейке «Дюрасел», писать про них — сплошное удовольствие, и автор идёт на это, как рыба на икромёт.
А как устроена женщина? Она хлопает ресницами, и лучших аплодисментов нам не получить. Всё запутано, начиная с материала — ребро? морская пена? бестелесное вещество сна и лунного света? Постигнуть эту тайну без того, чтобы повредить рассудок, пожалуй, действительно нельзя. Но прикоснуться к ней всё же можно. Прикоснуться с надеждой остаться невредимым. И смельчаки нашлись. И честно выполнили свою работу. Их оказалось 43. Слава отважным!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, гастарбайтерша из Молдавии горбатится сиделкой на графиню. Красивая тридцатидвухлетняя женщина шесть лет молодости отдала старухе в надежде, что та отпишет ей хоть что-то из наследства. Но вот приходит нотариус обновить или подтвердить завещание, и она подсматривает, что ничего ей не светит. Тогда с пистолетом она встает над старухой, требует составить новое завещание. Парабеллум — из боевого прошлого старухи: графиня Адриана Марино участвовала в Сопротивлении и прятала партизан.
И всё же у неё есть шанс, и немалый. Зависит от адвоката. Но откуда у неё деньги на хорошего адвоката? Зависит и от судьи: от того, как он относится к цыганам. Но она не цыганка. Она из Молдавии. Хорошо бы ещё судья знал разницу.
Он так и сказал ей, посмотрев поверх веера отмычек:
— Ваша участь зависит от судьи.
И глазом не повела.
Риккардо звякнул связкой, с бумагами в руках прошёлся по кабинету, встал у окна, квадрат неба над тюремным двором опустился на его лицо, качнулся в зарешёченные окна стены напротив. В который раз после обеда он прибывает сюда на Джудекку, в женскую тюрьму. В отличие от магистрата, нарезанного на стеклянные клетушки, ему нравится эта комната, обставленная шкафами с книгами, населённая равниной стола и кожаным бегемотом-диваном, на который он как-то предложил ей присесть, отказалась. Место тут не королевское, но вообразить здесь себя старшим следователем легко…
Он не слышал её движенья — всхлип раздался у ног, с колен она припала к нему, что-то забормотала, прижимаясь щекой к его паху, взглядывая с мольбой: просит что-то сделать, обещает разделить с ним наследство, отдать всё, пусть только он что-то сделает, пусть, она не хочет обратно в камеру, она хочет… В исступлении, рыдая, она целует его руки, старается улыбнуться, увлечь вниз, притянуть к себе… Но вдруг мокрое её лицо проясняется решимостью, она вцепляется в брючную пряжку, щелкает ноготь, ломается, он помогает ей.
Риккардо потрясён, раздавлен, но, выбравшись из-под неё, ёрзая прочь, как от заразной, вдруг тянется обратно, дотрагивается до разметавшихся волос.
До сих пор, окаменев, она стояла на коленях, раз за разом рывками пытаясь кулаками стянуть на голые бёдра платье, но вдруг, почувствовав прикосновение, очнувшись, она преданно вперяется, по-собачьи…
Он отводит руку и, хлопая ладонями, ползёт на четвереньках по полу, собирает разлетевшиеся бумаги, комкая их, будто деньги. Не глядя на неё, он шепчет:
— Ti amo… Ti amo. Ti aiuto in prigione… Non potrò… Non potrò far niente per te… T’amerò sempre. T’amerò sempre… [1]
Чёрное платье, облитая им талия, долгие бёдра, колена, полные смуглой матовости, тонкие щиколки, утлые туфли, она легко ступает, поворачиваясь слитно на пролёте, кончиками пальцев касаясь перил, довершая телесное легато, вся статная, узел вороных волос, прямой нос, чёрные солнца зрачков горят внутрь.
Грациозность её походки была бы совершенной — тут и полнота бёдер, раскачивающих отвесную ось поступи от ступней к груди, взволнованной скрытно силой голоса, здоровьем дыхания, всего тела, — если бы не едва заметная механичность, подобная той, что владеет душевнобольными, скрытная покорность марионетки, нити которой уходят в зенит незримости.
Руку оттягивает корзинка (мраморные жилки на тугом сгибе локтя), пучки зелени, торчат два батона, бутыль с молоком. При шаге в горлышке взлетают волны, пенятся, оплывают по куполу стекла, оставляя облачные разводы.
Она отпирает дверь, прислушивается; старуха похрапывает, будто мурлычет огромная кошка под ладонью невидимого хозяина-гулливера.
— Киса, киса, киса, — кивает и бормочет с улыбкой Надя, снимает лодочки, складывает в корзину, скользит в свой пенал: есть время передохнуть.
Она стягивает платье, отколупывает дверцу шкафа, окунается в зеркало. Высокие скулы, строгость зрачков, ладонями чуть поднимает груди, карие соски внимательно выглядывают над лифом. Ставит ногу на скамеечку, но, прежде чем собрать чулок, поворачивается, всматриваясь в зеркало, наполненное теснотой — кроватью, комодом, ножной швейной машиной, с чугунной лозой под станиной с колесом — и в то же время рассечённое вверху окном, распахнутым над каналом (верёвки от балкона к балкону, простыни, бельё); слышится тарахтение катера, или всплеск весла, голоса туристов — всё это затмилось телесной волной, стронутой поворотом бедра, снизу вверх, совершенной стройности, какую нельзя обнаружить среди людей…
Теперь вдруг в зеркале то, что брезжило в сознании как трудный, невспоминаемый сон, открывается перед ней свободой. И она спохватывается, чтобы не шагнуть в отдельность, как раньше, когда её захватывала мигрень, дорогой гость, после которого забывала мир, себя, а не то — близких, мужа. Приступ наделял инаковостью, но ощущала себя не возрождённой, а очнувшейся после жестокости забвенья, за безвременье которого кто-то делал с ней что-то, насиловал, мучил?.. В Италии мигрень отступила, но маячила неотложно, и приступы беспокойства связывались с приближением серой птицы боли, готовой наброситься, перебить шейные позвонки, начать клевать череп, впившись в него стальной плюсной. Мигрень ещё в юности наградила её всегда готовым подняться в груди ощущением отдельности тела от разума, души. День напролёт распятый болью мозг отвергал тело, и голова, ярясь, всплывала над грудью, пристально скользила, оглядывая руки, живот, лодыжки, ступни, пальцы. В каждый лоскутик телесного ландшафта, складку, пору — взгляд солнечной плазмы опускал лучик. Затем голова поднималась восвояси — в зенит, и отверженное тело отплывало прочь. В слёзной влаге его тоски теперь прорастало зерно его, тела, собственной души.
Сразу за домом начинались плавни: безбрежье тростников подступало к самым окнам. На границе кипел птичник: пёстрое облако кур, уток и казар — немых гусей, с рыжеватым пером и чёрным носом. Казары не гоготали, кричали глухо и хрипло и любили, о чём-то сипя, свиться шеями, безопасные, как евнухи. Казары — ангелы, не разбудят. Сейчас всё равно старуха подымает её, как младенец, в любое время ночи: попить, подложить или сполоснуть судно, поправить лампу, подать газету… Когда-нибудь она её задушит, просто сдавит дряблую шею, оттянет пальцами скользкую под кожей гортань.
Вспоминая дом, она будто бы обращалась к собственному телу. И объемлющая в невесомость упругость перины, и сонная возвышенность подушки, и коврик на стене, и этажерка с фотографиями фламинго, пеликанов, и зеркало, в котором тюль, приобнимая призрака, всплывал на дуновении; всё — вплоть до горки отсыревшего цемента у веранды, штабеля паркетных дощечек под крыльцом, уже загнивших, всё то, что никогда она уже больше не увидит, не ощутит, размещалось внутри, наполняло плоть. Даже пальцы хранили грубую, ветвящуюся ощупь стены из ракушечника: девять ступеней вниз, повернуть налево, налево, сесть за стол под навесом, сложить руки, всмотреться, как солнце стекает за скалу на другом берегу Днестра, как последним порывом широко колышется тростник, замирает.
Жизнь на краю плавней завораживала, весной тростник наполнялся птичьим гамом; в апреле по утрам за кофе она сиживала у окна, слушая вспыхивающие птичьи ссоры, всматривалась, как то тут, то там колышется тростник, будто по нему бродит невидимый гигант, как птицы взлетают, кружатся, хлопочут и пропадают в зарослях, словно шутихи.
В шелесте тростника чудились перешёптывания, перед ним порой её охватывал безотчётный страх; возвращаясь с птичника или идя по хозяйству за дом, вдруг напрягалась всем существом, широкое дыханье тростника оживало, и она трепетала, как в присутствии призрака.
Муж высмеивал её: «Ну кто там ходит? Кому ты нужна? Какой бабай тебя утащит? А утащит, так обратно принесёт».
Но всё равно она, работая во дворе, чувствовала этот неподвижный взгляд. Со временем научилась стойкости и уже не бежала его, как раньше, напряженье отпускало, но всё равно следила за собой по всей строгости — даже для грязной работы одевалась прилично, не ходила растрёпанной, держала осанку, садилась на корточки аккуратно, держа вместе колени, пользовалась только платочком…