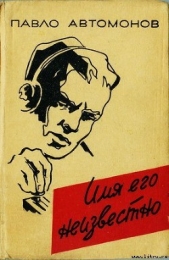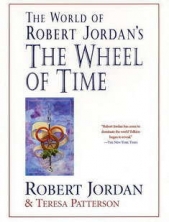Три грустных тигра

Три грустных тигра читать книгу онлайн
«Три грустных тигра» (1967) — один из лучших романов так называемого «латиноамериканского бума», по праву стоящий в ряду таких произведений, как «Игра в классики» Хулио Кортасара и «Сто лет одиночества» Гарсии Маркеса. Это единственный в своем роде эксперимент — опыт, какого ранее не знала испаноязычная литература. Сага о ночных похождениях трех друзей по ночной предреволюционной Гаване 1958 года озаглавлена фрагментом абсурдной скороговорки, а подлинный герой этого эпического странствия — гениальный поэт, желающий быть «самим языком».
В 1965 году Кабрера Инфанте, крупнейший в стране специалист по кино, руководитель самого громкого культурного журнала первого этапа Кубинской революции «Лунес де революсьон», уехал с Кубы навсегда и навсегда остался яростным противником социалистического режима. Сначала идиологические препятствия, а позже воздействие исторической инерции мешали «Трем грустным тиграм» появиться на русском языке ранее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я больше не боролся с благородной рыбой из сна, зато дрался, пинал, выпирал вероломного кашалота, который влез на меня наяву и лобызал огромными губами-легкими, в глаза, в нос, в губы, кусал за уши, за шею, за грудь, Звезда сползала и вновь садилась на меня и издавала странные, невероятные звуки, как будто пела и храпела одновременно, и вперемежку с этим мычанием говорила мне, миленький, родненький мой, полюби меня, поцелуй свою милую, ну, ну, ну давай, и все такое, над чем я посмеялся бы, если бы хватало воздуху, и я со всей силы пихнул ее, оттолкнувшись от стены (потому что оказался вжат в стену этой экспансией материи, смят взгромоздившейся на меня вселенной), отчего она покачнулась и упала с кровати и там, на полу, сопела и фыркала, а я одним прыжком подскочил к выключателю, зажег свет и увидел ее: она была совершенно голая и ее груди, такие же толстые, как ее руки, каждая вдвое больше моей головы, свисали одна вбок, до самого пола, а вторая над серединным валиком из трех огромных валиков, отделявших ноги от того, что было бы шеей, имей она шею, а первый валик над ляжками был продолжением лобка, и тут я убедился в правоте Алекса Байера, она полностью выбривалась, на всем теле не было ни волоска, и это было как-то неестественно, хотя в Звезде вообще не было ничего естественного. Именно тогда я спросил себя, не марсианка ли она.
Если сны разума порождают чудовищ, что порождают сны безумия? Мне приснилось (я опять уснул: сон — штука такая же назойливая, как бессонница), что марсиане завоевывают землю, не так, как боялся Сильвестре, на бесшумных космических кораблях, садящихся на крыши, и не как воинственные духи, которые просачиваются в земную материю, превращаются в микробов и селятся в людях и животных, а в истинном марсианском обличье тварей с присосками, способных возводить стены из воздуха, спускаться и подниматься по невидимым лестницам, величаво выступать и сеять ужас своим черным, сверкающим, молчаливым присутствием. В других снах или в том же, только преобразившемся, марсиане оказывались вездесущими звуковыми волнами, которые завораживали, словно пение сирен: вдруг вступала отупляющая музыка, парализующий звук, и никто не мог воспротивиться этому вторжению из космоса, потому что никто не знал, что музыка — это тайное смертельное оружие, никто не затыкал уши не то что воском, даже пальцами, и под конец сна я пытался поднести ладони к ушам, я все понял, но руки и спина и шея были приклеены к чему-то невидимым клеем, и я проснулся не на кровати, а в луже пота, на полу. Тут я вспомнил, что повалился в другом конце комнаты, у двери, и там и уснул. Может, мне в рот засунули перчатку автомеханика? Не знаю, чувствовался только вкус желчи, хотелось пить, но блевать сильнее, чем пить, и все равно я крепко подумал, прежде чем встать. Я не хотел видеть, как Звезда, будь она там монстр или человек, дрыхнет на моей кровати, храпит с открытым ртом и полуоткрытыми глазами и ворочается с боку на бок: никто, проснувшись, не желает видеть недавний ночной кошмар. Начал прикидывать, как мне бесшумно дойти до ванной, умыться, вернуться за одеждой, одеться и свалить. Проделав все это мысленно, я составил мысленную же записку Звезде, что-то вроде, чтобы, когда встанет, пусть уйдет тихо, нет, не годится: пусть наведет за собой порядок, нет, тоже не то: закроет дверь — черт, все это детский лепет и к тому же бессмысленно, Звезда, наверное, и читать-то не умеет, ну ладно, напишу толстым карандашом, крупными буквами, и, потом, кто сказал, что она не умеет читать? Расовая дискриминация, кажется, сказал я себе и решил подняться, разбудить ее и поговорить прямо. Только сначала оденусь, само собой. Я встал и окинул взором диван-кровать, и ее там не было, и долго искать не пришлось: передо мной была пустая кухня и открытая дверь в пустую ванную: все, нет ее, ушла. Часы, так и не снятые вчера ночью, показывали два (пополудни?), должно быть, она рано встала и неслышно вышла. Какая деликатность с ее стороны. Я пошел в ванную и, сидя на унитазе, читая инструкции, которые пишут на каждой пленке «Кодак», а их, неизвестно почему, валялось там много, читая, с какой удобной простотой вся жизнь делится на Солнце, Пасмурный Пейзаж, Полумрак, Пляж и Снег (ага, бля, снег, это на Кубе-то) и, наконец, Светлый Интерьер, читая, но не вникая, услышал звонок, и, кабы мог без антисанитарных последствий выпрыгнуть из окна, выпрыгнул бы, поскольку был уверен, это камбэк Звезды, а звонок все надрывался, и я заиндевел, так что кишки и легкие и все тело погрузились в абсолютную тишину. Однако нет друга настойчивее, чем кубинец, и кто-то гукнул мое имя в колодец двора, а сделать это проще простого, если знать планировку дома, обладать телосложением гимнаста, глоткой оперного тенора и прилипчивостью лейкопластыря и, рискуя жизнью, высунуться в окно лестничной площадки. Голос был не марсианский. Я открыл, не забыв предварительно проделать соответствующие гигиенические процедуры, и Сильвестре вихрем ворвался в комнату, взволнованно крича, что Бустро заболел и очень серьезно, Кто? переспросил я, приглаживая взметнувшиеся от вихря волосы, и он ответил, Бустрофедон вчера я его отвез домой уже утром потому что ему плохо стало рвало а я еще над ним прикалывался я-то думал он пить умеет а он сказал чтобы я езжал уже а сегодня я за ним зашел мы на пляж собирались и служанка сказала никого нет ни сеньоры ни хозяина ни Бустрофедона его в больницу увезли, сказал мне Сильвестре вот так, без единой запятой. И служанка так его и назвала — Бустрофедон? только и спросил я тупо, сонный, похмельный, уставший, Да нет же, черт, нет, конечно, назвала по имени, но точно про Бустрофедона говорила. И что говорят, что с ним? спросил я по пути на кухню за стаканом молока из оазиса в утренней пустыне пьяниц. Не знаю, сказал Сильвестре, думаю, ничего серьезного, но хорошего тоже ничего. Симптомы так себе, уж не аневризма ли или закупорка, не знаю, мне стало смешно еще до того, как он сказал «не знаю». Чего лыбишься? сказал Сильвестре. Гиппократ ты хренов, ответил я. Это почему еще? заорал он, и я понял, всерьез обиделся. Нипочему, нипочему. Ты что, тоже думаешь, что я ипохондрик? Нет, отвечал я, просто меня насмешили все эти названия и как он быстро поставил диагноз, все точно, по науке. Он улыбнулся, но промолчал, избавил меня от рассказа, как поступил или собирался поступать в медицинский, но как-то раз зашел с одноклассником на факультет, в прозекторскую и увидел трупы и почувствовал запах формалина и мертвечины и услышал, как хрустят кости под пилой в руках преподавателя или что там еще. Я предложил ему молока, но он уже завтракал, и с завтрака мы перескочили на то, что ему предшествовало, то есть не на молоко, а на вчерашнюю ночь.
Что делал вчера? спросил Сильвестре, в жизни не видел таких любопытных, как он: настоящий Почемучка. Гулял, вышел пройтись. Где? Да везде, сказал я. Ты уверен? Еще как уверен, как ни посмотрю, всё я да я иду, под рубашкой моей я, в моих ботинках я. А-а-а-а, протянул он, будто что-то знал, интересно. Я воздержался от расспросов, и тогда вступил он. А знаешь, что вчера было? Здесь? сказал я, стараясь не спросить лишку. Нет, не здесь. На улице. Отсюда мы самые последние ушли, что ли. Да, точно, последние, Себастьян Моран ушел еще до того, как вы со Звездой эстрады (мне послышался звон в его голосе) вернулись, а потом Джанни и Франэмилио, а мы с Эрибо и Куэ разговаривали, перекрикивали храп Звезды, и Эрибо и Куэ и Пилото и Вера ушли вместе, а мы с Бустрофедоном увели Ингрид и Эдит, а Рине вроде еще раньше ушел с Джессе и Хуаном Бланко, не знаю. Короче, я дверь закрыл, и мы с Бустро хотели с Ингрид и Эдит поехать в бар Чори, а Бустро такое откалывал, надо было слышать и запоминать раз и навсегда, но ему стало плохо, пришлось возвращаться, и в итоге Эдит сказала, что у него останется.
Я бродил по комнате в поисках носков, которых вчера было два, а сегодня каждый из них вознамерился быть в единственном экземпляре, и, устав искать их по всей вселенной, вернулся к себе в галактику, открыл шкаф и взял чистые и стал натягивать, пока Сильвестре продолжал рассказывать, а я соображал, на что потратить хвост воскресенья. В общем, развел я Ингрид (и тут я должен пояснить, что Ингрид — это Ингрид Бергамо, ее, понятно, зовут по-другому, но мы ей дали прозвище, потому что она говорит не «Ингрид Бергман», а «Ингрид Бергамо»; мулаточка, почти что белая, как говорит она сама, когда в ударе, осветляет волосы, сильно красится, втискивается в самые тесные платья на этом острове, где у женщин принято носить не одежду, а перчатки на все тело, и довольно слаба на это дело (что не умаляет ликования Сильвестре, потому что не бывает легких женщин до), развел я ее и привез в мотель на Восемьдесят четвертой, и уже приехали, а она нет и нет и ни в какую, и пришлось разворачиваться и уезжать, и все на такси. Но, продолжал он, уже опять в Ведадо, туннель уже раз пять проехали туда-сюда, мы стали целоваться и все такое, и она согласилась доехать до угла Одиннадцатой и Двадцать четвертой, а там все по новой, с той разницей, что таксист сказал, мол, он нам тут не нанялся сутенером и давайте платите, он поехал, и тогда Ингрид пристала, чтобы он отвез ее домой, но тут я под шумок расплатился, и он свалил. Ингрид, само собой, взвилась, подняла образцовый хай в ночи, мы ругались на улице, точнее, она брыкалась, а я пытался ее успокоить, я был рассудительнее самого Джорджа Сандерса (ввернул тут Сильвестре, который всегда говорит кинотерминами: однажды он сложил ладони рамкой, будучи за фотографа, и велел мне: не двигайся, из кадра выпадаешь, а в другой раз я приехал к нему, и в комнате было темно, двери балкона закрыты, потому что вечером солнце с этой стороны жарит по всем уголкам, и я открыл балкон, и он сказал, Ты мне двадцать тысяч фул-кэндлов в лицо засветил! а еще как-то раз мы сидели с ним и Куэ, и он рассказывал что-то про джаз, а Куэ ввернул какую-то банальщину про истоки нью-орлеанского джаза, и Сильвестре заметил ему, Не надо вот этих флэшбэков в разговоре, старик, и еще много, сейчас не вспомню), и за спорами мы незаметно добрели до угла Второй и Тридцать первой и в тамошний мотель уже зашли как ни в чем не бывало. Думаю, она не соображала от усталости, но это было только начало, в номере у нас развернулась борьба злодея из фильма Штрогейма с невинной героиней из фильма Гриффита, чтобы она села, представь, просто присела, даже не на кровать, а на стул, а когда села, вцепилась в сумочку и не хотела выпускать ее из рук. Наконец я вроде ее успокоил, она более или менее расслабилась, почти развеселилась, и тут я снимаю пиджак, и она вскакивает как ужаленная и к двери, и я крупным планом вижу ее руку на ручке двери, так что приходится надеть пиджак и снова ее усмирять, она дает слабину, садится на кровать, но тут же подпрыгивает, будто это йогова лежанка из битого стекла, а я очень по-светски, прямо как Кэри Грант, уговариваю не волноваться, мол, сесть на кровать ничего еще не значит, кровать — такой же предмет обстановки, как все остальные, на которые можно присесть, и она спокойно встает и кладет сумку на тумбочку и снова усаживается. Тогда я почуял, продолжал Сильвестре, уж не знаю как, что можно уже снять пиджак, снимаю, подсаживаюсь к ней, начинаю ее целовать и оглаживать и между делом подталкиваю назад, чтобы легла, и она ложится, но тут же опять садится, как на пружине, а я опять подталкиваю, и она опять ложится, уже вальяжно, настоящая романтическая сцена, хотя и чересчур откровенная, и я говорю, как жарко, и еще, очень жалко, если помнется такое элегантное платье, а она говорит, Правда, красивое? и сразу решает снять, чтобы не помялось, но больше ни-ни, она останется в комбинации, и снимает. И снова ложится, а я уже снял ботинки и забыл про кодекс Хейза и начинаю прорабатывать ее на средних планах или на американском плане и прошу, умоляю, чуть ли не на колени становлюсь в постели, чтобы она сняла комбинацию, я хочу видеть ее прекрасное тело киноартистки, пусть остается в лифчике и трусиках, это ведь просто кружевной купальник, плавать в постели, и к этим доводам, старик, она прислушивается и снимает-таки комбинацию, предупредив, правда, что дальше ни-ни. Точка. И мы целуемся и обнимаемся и ласкаем друг друга, и я говорю, у меня брюки помнутся, и снимаю и рубашку тоже снимаю и остаюсь в трусах, но обратно в постель она меня не пускает, снова рассердилась или делает вид, что рассердилась. Но мало-помалу я опять начинаю ее трогать за все места, и мы опять начинаем целоваться и все такое, и я очень тихо, почти off, начинаю уговаривать ее снять все, что осталось, ну хоть бюстгальтер, и дать мне взглянуть на ее великолепную грудь, а она не ведется, и я уже почти теряю терпение, когда она вдруг говорит, Ну ладно, чего уж там, и срывает с себя лифчик, и в красноватом свете лампы (это еще одна была битва: погасить верхний свет и включить красный ночник) я вижу восьмое чудо света, восьмое и девятое, два чуда, и я вдохновляюсь, и она вдохновляется, и вообще атмосфера перетекает от саспенса к эйфории, как по мановению Хичкока. В общем, чтобы тебя не томить, с помощью той же техники и тех же аргументов мне удается снять с нее трусики, но в тот момент, когда старик Хич вставил бы эпизод с фейерверками, все застопорилось, веришь, дальше я не зашел: она была непреклонна, и я заключил, что изнасилование — это как подвиг Геракла, такого просто не бывает, если жертва в сознании и насильник только один. Ноу, зэтс куайт импоссибл, диар Де Сад.