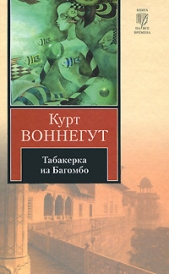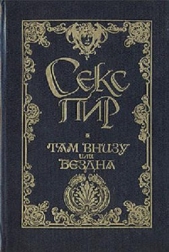Манящая бездна ада. Повести и рассказы
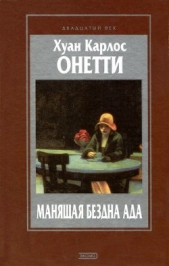
Манящая бездна ада. Повести и рассказы читать книгу онлайн
Уругвайский прозаик Хуан Карлос Онетти (1908–1994) — один из крупнейших писателей XX века, его нередко называют «певцом одиночества». Х.-К. Онетти создал свой неповторимый мир, частью которого является не существующий в реальности город Санта-Мария, и населил его героями, нередко переходящими из книги в книгу.
В сборник признанного мастера латиноамериканской прозы вошли повести и рассказы, в большинстве своем на русский язык не переводившиеся.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— День, два, три, а может, неделя, — медленно, разглядывая дорогу, сказал он. — Под конец у меня все перепуталось, и сейчас в голове неразбериха. Надо поспать, а там видно будет. У козла уже нет дома, потому что она жила из милости на ранчо какой-то родственницы, свояченицы или тетки. Но не у бабки, потому что от такой мерзкой старухи она происходить не могла. Так что я отведу его к себе и посмотрю за ним, пока он не умрет, придумаю какой-нибудь вздор, ведь все только вздору и верят. Ну, а вы, что же вы ничего не спрашиваете? Козел вас мало трогает. Так спросите же что-нибудь о женщине, о покойнице. Может, она была моей любовницей, может, речь идет о тайном браке или вдруг это моя сестра, ставшая уличной девкой.
Он играл в апломб и взрослость, сидя слева от меня, нога на ногу, скрестив руки, в своем нелепом городском костюме, и непокорные юношеские волосы падали ему на глаза. Я одной рукой вел машину, в другой держал сигарету. Беспокойный и зловонный козел удушливо хрипел у меня за спиной. Я совсем не думал о женщине, я все еще видел, как упорно он шел по кладбищенской аллее (разделял нас поразительно невесомый гроб), тонкий, молодой, породистый, упрямый, азартно, хоть и не очень убежденно, играющий по всем правилам до самого конца в игру, которую сам себе навязал.
Полуоткрытый от жажды и усталости рот, очень короткий, на трех пуговицах, неуместно новый темный пиджак в талию, бело-желтый платочек, высовывающийся, как и подобает, из кармана, твердый, блестящий, только что испачканный воротничок светлой полосатой рубашки, виднеющейся в треугольном вырезе бархатного жилета. Таков он был.
— Ну что вы! — сказал я ему. — Я только рад помочь вам. Я мог бы полечить козла, если женщину лечить поздно, и неважно, кем она там была.
Он кивнул в знак согласия и снова засмеялся. Уверенность в себе его не покидала, хоть он и искал понимания, не особенно, впрочем, на него рассчитывая. Мы доехали до известнякового карьера, и я повернул направо, к центру.
— Подождите, остановитесь, — сказал он, трогая меня за руку. Я притормозил и закурил сигарету, он от второй отказался. — А вы не могли бы усыпить его? Козла. Поедем к вам, вы сделаете укол, и устроим вторые похороны.
— Я мало смыслю в козлах, и все же я могу попробовать полечить его.
— Ладно, поехали. Если вам по берегу, завезите меня домой.
Когда мы приехали, мне не захотелось вытаскивать вместе с ним козла. Я увидел в ветровом стекле, что тот не желает никуда идти; деревяшка на ноге, привязанная бечевкой, по-видимому, была отломлена от какого-то куста. Юноша некоторое время осматривал фасад дома и потом, улыбаясь, вернулся к машине.
— А теперь дайте мне, пожалуйста, сигарету. Свои я выкурил, когда сидел около покойницы. — Мы сидели с ним вдвоем, соблюдая ритуал, как и на похоронах. — Козел машину не запачкал. Он умрет, так и должно быть. Я уже представляю себе, как рою ему яму в саду. Ну, ладно, спасибо вам за то, о чем вы и понятия не имеете.
Я удобно уселся и положил руки на баранку. Стекло было поднято до середины, мы смотрели друг на друга, оба с сигаретами в зубах.
— Примите ванну и выспитесь, — сказал я ему. — Если козел не умрет, я готов лечить его.
— Хорошо, — пробормотал он, и сигарета запрыгала у него меж губ. — И еще мне хочется поблагодарить вас за то, что вы мне не тыкаете.
Я уже говорил, что похороны были в субботу. Через неделю в шесть или семь вечера Хорхе поднялся по лестнице моего дома, пересек пустой зал и постучал в дверное стекло. Два раза, второй раз смелее. Я скучал, с трудом одолевая фантазии Пенде, прислушиваясь к доносящемуся через растворенное окно вечернему гулу на площади.
На нем был уже не костюм горожанина, а другой наряд, почти униформа, которую носила этим летом вся молодежь Санта-Марии за исключением последних бедняков: синие обтягивающие брюки, клетчатая рубашка с открытым воротом, куртка из тонкой кожи на «молнии», альпаргаты. Он предложил мне сигарету — они были американские, положил пачку на письменный стол и стал прохаживаться, рассматривая корешки книг, людскую суету на площади. Потом присел на край стола и улыбнулся виновато и доверительно, подавляя остатки раздражения.
— Я должен был прийти и пришел, — сказал он просто. — Он умер. Сегодня в полдень. Мне не удалось покормить его. Я всерьез думал его умертвить. Но это не понадобилось, да и вообще, козел — это козел, и смерть его не бог весть какое событие. Ну, разумеется, я сам вырыл яму и закопал его. Забавно было смотреть на него мертвого: брюхо вздулось, а ноги как будто выточены из дерева, белые с черным, как у игрушечной овечки. Конечно, та, больная, выглядела иначе.
Я видел, что он хорохорится и что на самом деле воспоминания его не воодушевляют. Мы говорили об учебе, о женщине, о теории Пенде, обо всем, но только не о том, о чем думали на самом деле. Мы сходили поужинать в «Берн», а на обратном пути, проходя с двумя бутылками вина по площади, окунулись в летний субботний вечер, запруженный парами и целыми семьями, насквозь пронизанный неизбежной и такой привычной ностальгией, исходящей от реки с ее запахами и затерявшегося вдали полукружья куцего поля.
Он опять стал рассматривать книги, снова пристроился на краю стола.
— Невероятно, — сказал он. — Может, с вашей помощью я поверю в это, а может, вам удастся разубедить меня. Ведь это одно и то же. Вы знаете, бывает так, что происходящее владеет нами, пока происходит; мы способны жизнь отдать, чтобы это произошло, мы чувствуем себя ответственными за то, чтобы оно осуществилось. Со мной так и было; но фактически я был причастен к этому четыре или пять дней, а завершилось все много позже, в субботу на кладбище. А может, конец настал и уж теперь раз и навсегда, вчера вечером, когда я орудовал лопатой на задворках дома и вырыл могилу, в которую едва мог поместиться старый вонючий козел — хотя от него перестало разить, как только он подох, — козел с одеревенелыми, негнущимися ногами, торчащими из-под обвислой, пожелтевшей от старости шерсти.
— Может быть, — поддакнул я, не пытаясь разобраться, не подгоняя его. Мне хотелось, чтобы ко мне это пришло как озарение, чтобы меня осенило свыше. — Я ничего не понимаю, а догадок строить не хочу. Впрочем, с этим, последним, конечно, все ясно, хоть я и считаю, что вы по-настоящему разделаетесь со всем, только завершив свой рассказ.
— Может быть, и так, — сказал он покладисто и благодарно улыбнулся. — Даже вполне может быть. Ведь все эти мои переживания были разбиты на части, а части сильно разобщены временем и теми делами, которыми я занимался в перерывах. Я никогда не представлял себе реально всю историю целиком. Самая подходящая для этого минута выпала неделю назад, когда я сидел около покойницы, и мы были одни, не считая, разумеется, козла. Но тогда я весь ушел в сострадание. Все, что я мог вспомнить из этой истории, лишь усугубляло мою жалость, так что к рассвету я был в том состоянии, когда страдание делает счастливым; я был близок к слезам, ощущая, как они вскипают и растворяются, так и не пролившись. И еще во мне кипела злоба на всех, да, да, именно на всех, буквально на всех нас. То, что мне припоминалось, подхлестывало мою жалость, усиливало мою злобу, обостряло угрызения совести, и я чуть не разрыдался, как какое-то время назад чуть не женился, но только чуть. Я всегда ускользаю. И даже Тито, когда мы с ним говорили об этой истории, не мог ощутить ее как что-то завершенное, не мог увидеть, что у нее есть призрачный, но непреложный ход событий, есть начало и конец, что она реально существует. Но может, это случится сейчас, когда я рассказываю, если только мне удастся верно все рассказать.
— А вы попытайтесь, — мягко посоветовал я, — сразу напрямик. Вдруг вам повезет. Давайте выпьем немного вина.
Я видел, как он улыбается, склонившись над бокалами и наливая в них вино. Короткая бронзовая прядь упала ему на лоб. Чем-то неподдельным и чистым, каким-то торжествующим благородством веяло от него, невзирая на экстравагантность его наряда, развязность, самоуверенность и решимость намертво вцепиться в жизнь. И это нечто, это благородство шли не от пережитого, которое он мог помнить, а мог и забыть, хотя оно по-прежнему наполняло все его существо; они надвигались на юношу медленным облаком из того далекого и того близкого будущего, которое ему не было суждено забыть или обойти. И, глядя, как он жадно впивается в бокал, будто его на самом деле томит жажда, я внезапно понял, что если ему удастся рассказать мне свою историю, то в процессе рассказа он окончательно утратит все то, что связывало его с юностью. Не остатки детства, нет: оно в нем никогда не умрет. Юность: вздорные стычки, безответственность, бессмысленную жестокость. Я смотрел на него с грустью, гордостью и как бы прощаясь.