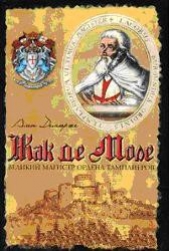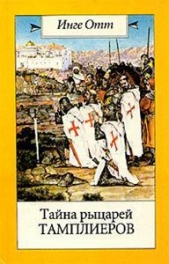Бафомет

Бафомет читать книгу онлайн
Пьер Клоссовски (1905–2001) — одна из самых загадочных фигур в европейской культуре XX века. "Бафомет", последнее художественное произведение писателя, получил в 1965 году престижную Премию Критиков. Писатель, в равной степени освоивший учение отцов церкви, взрывную мысль маркиза де Сада и вечное возвращение Ницше, по словам критика, стоит в этом романе "одной ногой в семинарии, а другой — в борделе": действительно, с утонченной иронией теологические и метафизические построения сплетаются здесь с изысканно извращенной эротикой. В центре романа — фантастическое переосмысление знаменитой исторической легенды об ордене тамплиеров. В книгу включено также развернутое эссе Клоссовски "Купание Дианы", в котором огромная эрудиция автора смешивается с плодами самого прихотливого воображения, и посвященная творчеству писателя статья М.Фуко "Проза Актеона".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Можно ли ожидать, что на картине окажется то, что может с нами произойти? При условии таинственного соответствия изображения нашим непредвиденным намерениям. Если только изображение не оказывает на нас убеждение такой силы, что нам не остается ничего иного, как воссоздать его в повседневном пространстве. Но хотя, несомненно, приятно видеть, как художник предлагает нам то, что напевает наш дух — и, в особенности, принуждать к откровенности не слишком разговорчивое божество, — нужно все же преодолеть целую бездну, чтобы очертя голову ринуться в интимную сферу нашего привычного демона: как же тогда быть с картиной, которая представляет одновременно с нашим преступлением и наше наказание? Не будет ли она обладать по крайней мере тем достоинством, что удержит нас в нашей комнате?
Более соблазнительным и правдоподобным представляется нам мнение тех, кто видит в поведении Актеона нарастающее влияние культа Диониса, о смешении ритуалов которого с культом делосской богини он, вероятно, и мечтал. Как Актеон встретился с Дионисом? Ответ прост: бог винограда и бреда, бог, который умирает и воскресает, происходит из той же семьи, что и знаменитый охотник. И можно без преувеличения сказать, что бог этот терзал эту самую семью подобно комплексу, пока не обрел в ней свои земные истоки. Ахтеон приходится внуком Кадму. В действительности у Кадма было три дочери: Автоноя — та-что-себе-на-уме, — мать нашего героя; Семела, мать Диониса; наконец, Агава, жрица вышеназванного бога и мать Пенфея. Стало быть, по всем законам можно назвать Актеона «двоюродным братом» бога — в смысле генеалогии как духовной, так и телесной. Семела, мать бога, была, таким образом, его теткой; и точно так же Агава, мать Пенфея. Но то, что случилось с Семелой, происходит некоторым образом — в подобной, но негативной форме — и с Актеоном: оба гибнут из-за своего видения. Семелу, Агаву, Актеона обуревала одна и та же страсть: экстаз. Похоже, что здесь имеет место врожденная страсть, наследственная хворь отпрысков Кадма: в их крови были боги. Откуда и у обеих женщин, как и у их племянника Актеона, пренебрежение к принятому богослужению, каковое соразмеряет и умеряет соприкосновение с божественной вечностью в повседневной жизни и предохраняет его от всяческих излишеств. Для них культ совпадает с судьбой, а их религия состоит в том, чтобы очертя голову погрузиться в бога или богиню. Семела не довольствуется тайной связью с Отцом богов, ей претит топить единящую с богом жизнь в затхлости альковного адюльтера. Она желает, чтобы Зевс обладал ею целиком и полностью, в своем непереносимом облике. Она желает его видеть. Пожранная пламенем, она торжествует: Дионис рождается, чтобы умереть и возродиться. Мог ли Актеон не обдумать подобное событие, случившееся в его же семье? Самое странное, что вариант нашей легенды, поведанный Стесихором, гласит, что он хотел овладеть своей тетушкой Семелой и его превращение в оленя стало наказанием за это посягательство. Здесь Семела и Артемида на мгновение смешиваются, и, хотя, на первый взгляд, речь идет о путанице имен («Селена» — лунный эпитет Дианы), путаница эта лишний раз подкрепляет предположение в пользу влияния Диониса на Актеона. Если же, наконец, учесть, что отцом Актеона, сына Автонои, сестры Агавы и Семелы, видных участниц мистерий, был Аристей, сын Аполлона и нимфы Кирены, наш герой предстает перед нами обремененным тяжким наследием: не племянник ли он Артемиде, своему демону-хранителю? Какова тогда природа его преступления: отчаянное усилие примирить два переполняющих его противоречивых чаяния? Не сжигает ли его одновременно и кровосмесительное, и мистическое пламя?
Актеон пытается жить как олень. Если к этому его побудили мистерии Диониса, можно предположить, что наущения этого бога подтолкнули его искать необходимую для насилия над Артемидой дерзость в бреду. Можно представить себе «племянника» Семелы, уже зараженного новой ересью, в момент, когда он погружается в размышления об Артемиде. Подобное занятие обязательно должно быть святотатством, поскольку речь идет о выходе за древние рамки: чтобы его предпринять, Актеону необходимо утратить сознательность, дабы он знал, что утрачивает сознание, и познал бред. Направить его, поддержать и оправдать мог только Дионис. Актеон готовит свое преступление как собственное жертвоприношение Артемиде; он приемлет наказание богини как откровение: став оленем, он проникает в секрет ее божественности; растерзанный своими собаками, предваряет миссию Орфея. Но эта смерть, состоящая в том, чтобы в подражание Божественному Господину быть разорванным на части, является образом разглашения и освящения некой тайны. И Пенфей, хулитель новой религии, перед тем как быть растерзанным своею собственной матерью, припомнив об этом странном приключении, хотя оно и показалось ему странностью, надумал по крайности воззвать к непостижимому мученику: но, испуская дыхание, положился на более человеческие чувства и воззвал к Автоное: «О сестра моей матери… да смягчит тебя тень Актеона».
Мог ли Актеон знать свою собственную легенду и сознательно искать бреда? Или, скорее, не опережала ли его извечно эта легенда, и не был ли его бред слишком притворным, слишком обговоренным, слишком неспешным, чтобы когда-либо ее догнать! Актеон и в самом деле бредил, потому что знал, что бредит. И, поскольку сомневался в целомудрии Артемиды, сомневался также и в собственном превращении. И тогда Актеон, опасаясь, что он отнюдь не Актеон, убил оленя, отсек ему голову, в нее вырядился. И его собственные псы, узнав его, отвернулись и оставили его одного.
Эти силуэты гор, эти леса, лощина и источник, уж не обладают ли они реальностью только в ее отсутствие? Эта поляна, на которой резвится моя свора, эта прогалина, где вдруг возникают оленята, — быть может, это всего-навсего очевидности, самовольничающие, потому что я решил ждать ее здесь! Эта купа буков, эти осины, чья листва нашептывает мне тысячи вещей, чтобы отговорить или убедить остаться еще на какое-то время, или же эти ивы, чуть ниже, в которых она вполне могла бы спрятаться, — почему именно они наделяют так обустроенное пространство излишней для подобного вторжения обыденностью? Чем больше я погружаюсь в видимость этих предметов, тем лучше вижу то, что обрисовывает ветерок: ее лоб, ее прическу, ее плечи — если только более бурный порыв не облепит к тому же ей туникой ложбину между бедер, повыше колен. Не ощущает ли на себе ее стремительные пятки эта отлогая лужайка, где время от времени колеблются и склоняются то одни, то другие маки, и не хлещет ли по золоченым сапожкам, из которых проступает изгиб ее ног, усыпанная цветами трава? Как никогда ощущаю я достоинство пространства — как самое рассудительное наслаждение моего духа, — стоит ее лбу, ее щекам, горлу, шее и плечам облечься в нем в тело и обосноваться, стоит ее непереносимому взгляду его обследовать, стоит ее проворным пальцам, ладоням, локтям и лодыжкам рассечь воздух и ударить по нему. Но если пространство предваряет ее приход, стоит ей прийти, и я сомневаюсь, что эти леса останутся существовать у меня на глазах, что эта ложбина до мельчайших своих корней покажется мне чем-то иным, нежели иллюзией; я сомневаюсь, что источник будет журчать вне меня, коль скоро она к нему подойдет. Но покорной остается волна: прежде чем коснуться ее пальцами ноги, нимфа, отбросив свой лук, отделит эту волну от моей мысли.
В пространстве, которому суждено ее принять, я всего только терпим, лишь бы я был так же прост, как вот эти деревья. Моя мысль переполняет пространство, в котором, однако, мысль эта брызжет как питающий водоем источник. Она сама хочет обнаружить эти места в их наивной видимости. Ну а я смещаю очертания, вздымаю ветви, будоражу волны…
Найти путь, ведущий в это абсолютное пространство!
Подчас мне казалось, что высоко, на скале, я вижу спину старого Пана, тоже выслеживавшего ее. Но издали его можно принять за камень, за ствол какого-то старого, корявого дерева. Потом его было уже не различить, хотя звуки его свирели все еще отдавались в воздухе. Он стал мелодией. Он перешел в колебание воздуха, в котором она потела, расточала, раздеваясь, аромат своих подмышек, промежности.