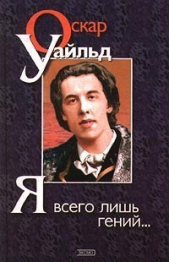Родная речь
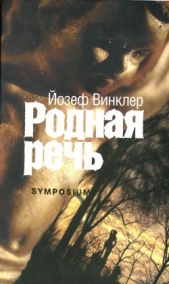
Родная речь читать книгу онлайн
Йозеф Винклер родился в 1953 году в деревне Камеринг в земле Каринтия на юге Австрии и описывает в произведениях свое крестьянское религиозное воспитание. Своей темой Винклер избрал смерть и ее ритуалы. Маленький мир, который его окружает, становится отражением безжалостного большого мира, а образы дает ему католическая религия, изображаемая как союзница смерти, так как она уже тысячелетия пытается лишить людей многих сторон жизни. Сам Винклер не мыслим без католицизма, его гомосексуальные мечты и переживания неотделимы от мира распятий и облаток, исповедей и сладковато пахнущих плесенью молитвенников и помпезных похоронных обрядов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Дети страшно кричали, когда увидели в ванной повесившегося отца, — рассказывал мне хозяин сельского магазина. — Жена все пыталась его растолкать, не могла поверить, что он мертвый. Потом говорила, что он был совсем не похож на мертвеца. Она села рядом и стала гладить его руки, пока он весь не закоченел». Когда среди белого поля на лыжном склоне мы выбирали место для лучшего обзора кладбища и хода погребения, мы увидели у кладбищенских ворот пикап, груженный окровавленными мослами и ребрами. После того как отзвонили колокола по усопшему, пестрая похоронная процессия пришла в движение и через заснеженное поле подошла к кладбищу. Пикап с мослами и ребрами отъехал от ворот. Мы видели маленьких детей покойного. Небрежно размахивая букетами, они шли за гробом. Мы слышали слова священника, который, стоя у открытой могилы самоубийцы над его головой, громко внушал: «Не убий ни других, ни себя самого!»
На зеркальной столешнице стоит серебряный подсвечник с тремя свечами, средняя немного возвышается над правой и левой, как победитель на пьедестале почета. Я наблюдаю драму их обратного роста. Когда они становятся маленькими и толстенькими, я вешаю на их парафиновые шеи заслуженные медали. Черный фитиль — знак полной отдачи сил.
В сенях на большом деревянном столе лежат ноты сочинений композитора. «Мне пока еще не хватает ритма, — говорит он, — только ритма. Я бегаю по всей округе, пытаясь найти его. Мне мешают птицы. В их пении я слышу ритмы, которые противопоказаны моим сочинениям». Я не общаюсь с преподавателем музыки или с бургомистром, я общаюсь с батраком из соседнего дома, приглашаю его к себе. Его заляпанные навозом башмаки несут музыку в самих себе. Батраку и мне он играет сонату Моцарта. «Это кого хочешь проберет», — говорит батрак. Он почти с богомольным благоговением стоит у рояля. Его глаза полны печали.
Присесть он не осмеливается. Всякий стул кажется ему слишком прекрасным для его грязных штанов.
После того как художник Георг Рудеш углем из кафельной печки изобразил двенадцать моих, как он выразился, фиктивных посмертных масок, я попросил его нарисовать такие же фиктивные маски Якоба и Роберта. Он поинтересовался, не желаю ли я, чтобы мою фиктивную маску увенчали лавровые листья. Я засмеялся и сказал: «Нет!» А про себя подумал: «Да, хорошо бы». Покидая Снежные горы, он взял маски домой. «Я исполню их в гипсе и вышлю вам», — сказал художник Георг Рудеш.
Я позвонил в дверь публичного дома. Дверь открыла какая-то старуха с уже протянутой рукой. Я знал, что за вход надо заплатить десять шиллингов. «Ступай наверх», — буркнула она, и я начал подниматься по лестнице, касаясь рукой стены в выцветших красноватых обоях и прислушиваясь к хлопанью дверей. Несколько дам, приняв кокетливые позы еще до того, как я миновал последние ступени, стояли в коридоре и продолжали свою беседу так, будто не заметили появления гостя. Я кивнул одной, в голубом пеньюаре, и быстро прошел в ее комнату. Даже шлюхам я не хотел выдавать своего намерения переспать со шлюхой. Потаскуха в деревне презираема не меньше, чем педик, равно как и человек, живущий монахом, все они становятся посмешищем в глазах деревенского мира. Если бы эти зубоскалы знали, что в женской одежде я поднимаюсь к поклонному кресту на горе, откуда обозреваю долину Дравы и мою деревню. Если бы они могли предположить, что я откровенным трансвеститом пересекаю скотобойню и шатаюсь по кладбищам, что в каком-нибудь баре или клозете опускаюсь на колени перед юным трансвеститом, отстегиваю его чулки от пояса с резинками, стягиваю женские трусики, утыкаюсь головой ему в пах и начинаю рыдать в кабинке с унитазом. А им надо это знать. Я бросаю им свое истинное бытие, как кусок телятины на стол.
В период полового созревания мне захотелось однажды купить белого мышьяка, так как я слышал, что им подкармливают истощенных животных, отчего они прибавляют в весе. Но я знал также, что передозировка грозит смертью. Я собирался пойти к аптекарше и сказать, что отцу нужен мышьяк для скотины. Я часто околачивался у аптечного прилавка с серебряными весами, когда надо было купить лекарств для матери, и все набирался смелости спросить насчет мышьяка. Позднее я выписал себе из Германии препарат для наращивания мышечной массы, который принимал в виде драже. Мне приходилось идти в филлахскую таможню и предъявлять справку об отсутствии задолженности по налогам (говоря на языке таможенных предписаний), но посоветоваться с врачом по поводу выбранного мною средства я не решился. Завидев на улице хорошо сложенных парней, я оглядывался им вслед и в конце концов влюбился в одного из них. Я стыдился своего тощего тела и потому в течение нескольких лет и не думал соваться в открытый бассейн. Не один год носил красную одежду причетника. Мне хотелось даже на сенокос выходить в этой красной хламиде. И разносить по домам церковную газету. А черную одежду служки использовать для повседневной носки. При исполнении обязанностей псаломщика я сидел на женской стороне храма, рядом с Марией, кухаркой священника. Гомосексуалистами не рождаются, пишет Сартр, но ими можно стать в силу обстоятельств и реакций на них. Все зависит от ответа на вопрос о том, в чем заключается воздействие на тебя других людей. Гомосексуальность, по Сартру, есть нечто такое, что в определенный решающий момент, в момент удушья, открывает или придумывает ребенок. Мои родители никогда не слыхали слова «гомосексуализм». Они не знали, кем я был в детском возрасте, и не знают, кто я сегодня. Я испытал прекрасное состояние, будучи любим мужчинами, которые могли бы быть моими отцами. Если бы капля семени, из коей я появился, лежала каплей росы на ветке японской вишни!
Почему бы мне не опуститься на пол, как, бывало, в детстве я порой охотно, а иногда и против своей воли вставал на колени, чтобы облобызать ступни Иисуса, а теперь поцеловать твои? Они пахнут не кровью Христовой. Наверное, они пахнут потом, и я беру плащаницу Иисуса и вытираю их. Однажды, разгоряченный бегом в радостном угаре любви к тебе, я хотел вонзить нож себе в грудь. Бросаясь тебе в ноги, я тешу себя надеждой, что вылезший из пола гвоздь воткнется мне в сердце, смерть будет расплатой за покорность. Я видел, как один негр положил себе на язык еще пульсирующее сердце убитой козы. А почему бы мне не схарчить мертвого человека, которого я люблю? Ведь животные пожирают друг друга, даже если между ними нет любви. Если ты любишь скотину больше, чем человека, знай, что я больше не хочу и не могу тебе помогать, и тогда ты умрешь, отдав жизнь скотине. Ты не сердишься на меня за то, что я временами желаю тебе смерти? Я в изумлении останавливаюсь, глядя на бегущую лошадь, на ритмичные движения ее головы. Спина — как вибрирующий лист гофрированной стали. Из-под копыт летят комья земли. Ели на опушке леса похожи на обращенные остриями вверх гусиные перья, с которых стекают черные чернила. Мы шли, свернув на безлюдную дорогу, чтобы иметь возможность обниматься без свидетелей. «Я завидую девушкам и парням, тем, что обнимаются на скамейках», — сказал он. В окрестностях Ассизи мы, взявшись за руки, шагали по проселку в тени олив. Водитель проезжавшей мимо машины постучал рукой по лбу и хихикнул, глядя на нас, но мы невозмутимо продолжали путь. «Тот, кого я люблю, снял с меня прижизненную маску, без него я уже не смог бы жить», — признался он.
Как только я слышал чуть хрипловатый голос трансвестита, мне на ум приходил шероховатый лист бумаги, на котором я пишу любовные стихи. Перо со скрежетом выводит буквы, они получаются слишком жирными, кончик пера обрастает бумажными ворсинками. «Я ощущаю себя женщиной, — сказал он. — А как себя ощущает женщина?»
Однажды я привел в свою квартиру на Тарвизерштрассе паренька, промышлявшего проституцией. Он был настолько пьян, что мне пришлось чуть ли не тащить его на себе под дождем до самого дома. В моей комнате он тут же повалился на кровать. Как только он заснул, я раздел его и укрыл одеялом. Поскольку у меня лишь одна кровать, сам я лег на полу. Чтобы моя постель была помягче, пришлось достать из шкафа грязное белье. Я был просто счастлив, что имею возможность спать на полу, в то время как он лежал на моей кровати.