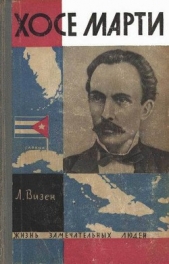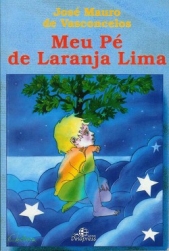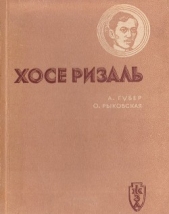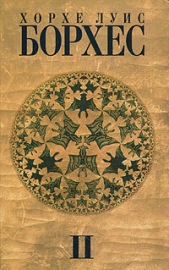Зачарованная величина

Зачарованная величина читать книгу онлайн
Хосе Лесама Лима (1910–1976) — выдающийся кубинский писатель, гордость испанского языка и несомненный классик, стихи и проза которого несут в себе фантастический синтез мировых культур.
X. Л. Лима дебютировал как поэт в 1930-е годы; в 1940-е-1950-е гг. возглавил интеллектуальный кружок поэтов-трансцеденталистов, создал лучший в испаноязычном мире журнал «Орихенес».
Его любили Хулио Кортасар и Варгас Льоса. В Европе и обеих Америках его издавали не раз. На русском языке это вторая книга избранных произведений; многое печатается впервые, включая «Гавану» — «карманный путеводитель», в котором видится малая summa всего созданного Лесамой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Декарт всегда отталкивал меня даже не столько переоценкой ошибок восприятия — издали башня круглая, вблизи квадратная — сколько тем, что, кажется, признает их истинами, но принадлежащими злому духу, как будто veritas [44] Бога равнозначна и противопоставлена fallor [45], козням дьявола. То же и с последовательностью устанавливаемых им причинных связей: они словно продиктованы самим изяществом, однако примеры его {256}, по-моему, всегда отдают холодком сомнительных гипербол. Если я осязаю кусок воска, он, без сомнения, существует; если под моим окном проходят фигуры в плащах, это люди. Но как же легко после опытов со светом и теплом усомниться в своих ощущениях воска, решить, что в плащах вовсе не люди, а лишь гомункулы на пружинах, дающих им форму и движение. Его беспредельное, внушенное злым духом сомнение относится или восходит к незаконнорожденным мыслям, о которых упоминает в «Тимее» Платон: он не перестает возвращаться к границе между бдением и сном, к теме пустоты пространства, если оно не воздействует на наши органы чувств, «И все же, — говорил отец Гассенди {257}, отвергая второе „Размышление“ вопреки всем этим фантазмам, — мы воспринимаем окружающее как истинное: ведь даже зачарованные мы существуем». Словно напоминая, что все мы зачаты в первородном грехе, в Декарте как бы воскресает изначальный страх познания. Того, что явь связна и последовательна, еще недостаточно, чтобы отличить ее от сна: мы не можем быть до конца уверены в единстве и устойчивости яви, как и в бессвязности и эфемерности снов. Но и в этой мысли мне видится безмерное сомнение, за ней — прежде всего неверие в поэзию. Иначе говоря, для Декарта словно бы не существует затемняющей оболочки, ошибки в пределах самого злого духа, вне любых сопоставлений познающего субъекта с предметом ощущения или тем, который отмечен знаком поэзии. У Декарта постоянно чувствуешь это вторжение злого духа, крутящейся саламандры; он сражается с безмерным сомнением, со страхом превратить познающего субъекта в фантасмагорию, но остается в его заколдованном круге, вырываясь на свободу лишь в минуты гордыни, когда отвергает околоплодную оболочку тьмы вокруг субъекта познания. Если пространство не вонзает стрелы в наши органы чувств, не возбуждает их поверхность, — говорит он в шестом «Размышлении», — оно пусто. Декарт не заметил зиждительной силы расстояния, Эроса дали, приманки отсутствия, зачинающего озаренье. Он забыл, что в символике тела — а она есть лишь преображающее его безмерное сомнение — различные масштабы соответствуют разным созидательным возможностям: взять, например, пространство ключицы, куда уходит корнями идумейское древо творения {258}, или протяженность ребер, по которым гадает авгур или где новым грибом-полипором сгущаются снотворные испарения оракулов.
Безмерность сомнения — в прямой связи с ситуацией безмерности, и это начало координат, определяющих пространство поэзии. Нужно терпеливо, не разрушая, проникнуть в его внутренние связи и соотношения или скрыться, оставив на изузоренной папоротниками скале венозную веточку влаги, отпечаток губ, умоляющих о пустотелом пространстве. Тайный — только бы не нарушить первозданных, нащупываемых формами движений! — вход в ситуацию безмерности и выход из нее, проникновение в неизъяснимые различия среди, казалось бы, однородного потока, неуловимого каскада прибрежных глубин. Чудесная, невесомая комбинаторика пространства, чуть затронутого, едва задетого взглядом сквозь эту отцеживающую все внешнее пену, приходит в благоговейный миг как осиянность, как микроскопическое и нескончаемое излучение, внезапно открывая в недвижном искристом колесе фигуры гостей, явившихся навестить наши чувства, чтобы затем пророчески раствориться в кортеже следующих друг за другом отзвуков. «Имеющий невесту {259}, — сказано у Иоанна, — есть жених; а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться». В подчеркнутой диамантовой твердости этого голоса, в самом посредничестве друга, остающегося свидетелем дыхания и голоса в доме, присутствует поэтическая система координат. Молчаливый свидетель, готовый исчезнуть, лишь только ситуация эта утратит безмерность, лишь только стушуется фигура, вводящая его в нескончаемые внутренние связи и отношения, склоняя к скорбному, неизъяснимому бдению ради того, чобы дождаться отрадного голоса, он как свидетель знает: дыхание, взлетающее стрелой голоса, предназначено не ему, но знает также, что включен в таинство, входит в маршрут расказа о чудесных началах голоса в озарении света. И потому таится и ждет. Он знает, что стоит ему покинуть сияние, сноп искр, способных одушевить эту сферу, — и он утратит само пространство роста и умаления. Чувствуя свою малость, свидетель вместе с тем приобщен к поэтическому деянию.
Ведомые дыханием, предводимые душою, восходят числа по лестнице Иакова, чтобы, отметив остановкой различные ситуации безмерности, возвратиться к изначальному единству. Удивительно: греки периода зрелости учили об изначально едином, а в наиболее известных текстах китайской мудрости упоминается недвойственное единое! Словно золотистая протяженность колоса в житнице, в изначальном едином заключено будущее произрастание, то, что в позднейшей традиции ad ecclesiam [46] назвали бы протяженно единым. Эта никогда не прерывающаяся в самых разных культурах борьба внутри единого между протоном и целостностью, между зародышем и архетипом и вводит нас в poiesis [47] — воспоминание о шествии первозданного к недвойственности, единственную памятку, с которой человек предстает свидетелем перед je m’en fous [48] верховных богов. Произрастание зерна первозданности рушит надменный покой доски с росчерком Стагирита {260}, который предпочитает приступать к перечню проблем с логического начала, а не с первозданного истока любого движения и всякой причинности. Поэтому, прибегая к одной из коварно изобретенных греками ловушек, он ставит на пути к единству его подмену — форму и связывает понятия формы и материи. Этот первый морфолог понимал, что распознавание и возбуждение вкуса надежнее связывать с понятийным наслаждением достигнутой формой, чем рисковать, диалектически удерживая в неустойчивом равновесии понятие единого, в котором у греков всегда чувствуется столько колебаний, столько страха перед раскраской покойников у египтян и необходимостью заучить наизусть бесчисленные имена возможных привратников подземных обиталищ смерти. Первозданно единое дает начало диаде, двоице, произрастающей из того же движения поэтической речи, тогда как недвойственно единое у даосов порождает всего лишь двойника. Греки же со времен своего счастливого пробуждения установили кардинальное различие между двойником и диадой, отходя от египетского понятия двойника и распределяя числовой ряд по возрастающей.
Напомню, что в процитированной фразе из Евангелия трое могут означать как свидетельство, так и отсутствие. Мы видим, как троица свидетельствует о росте и умалении, подчеркивая переход от дыхания к голосу. В подобном одухотворении числа не всегда удается различить, является ли троица шагом от изначально единого к двойнику или к imago, синтезом или браком единого и двоицы, супружеским таинством домашнего очага или, напротив, мгновенным прекращением огня, сплавляющего частицы воедино, — отсутствием. Не об этом ли отсутствии говорит народная мудрость в одной из копл, прямо отсылая к подобному мерцающему смыслу троичности: