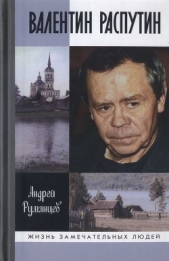Повести и рассказы
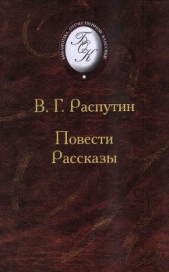
Повести и рассказы читать книгу онлайн
Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, произведения которого стали классикой отечественной литературы, писатель редкого художественного дара. Его язык - живой, точный и яркий, драгоценный инструмент, с помощью которого Распутин творит музыку родной земли и своего народа, наделяя лучших своих героев способностью ощущать «бесконечную, яростную благодать» мироздания, «все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть...».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не попала.
— По больницам отлеживалась? Че лечила-то?
— Не приведи больше Господь такой отлежки! — пусто, не впервые за последние дни одними и теми же словами отвечала Агафья, тоже глядя на Ангару; всю жизнь так бывало: поглядишь на нее, и силушки, терпения прибудет. — Не приведи Господь! Пошла туда с одной хворобой, там належала все десять. Нет, не по нам, парень, леченье. Кому, может, и леченье, а нам мученье. Мы люди нелечимые. Как кони.
— А че ж кони!.. Коней тоже лечат. Ветеринары-то на что?
— Много они калечили, твои ветеринары? — без охоты, думая о другом, о том, как изловчиться убежать на ночь обратно в Криволуцкую, в свою амбарушку, чтобы пускай в разоре, но в своем разоре, среди остатков родного духа хватить сна. — Ветеринары твои только и приучены, что поросят легчить да браковку делать. Ой, а надо мной-то чего вытворяли! — вдруг спохватилась и заговорила живей, отчаянней: — Че вытворяли! Я тебе расскажу. Вот несут вот этакую кишку, из резины, потертую, я уж потом догадалась, что жеванную… Несут — глотай! — на чужой голос требовательно вскричала она. — У меня глаза на лоб. Глотай! — кому говорят! А как ее глотать?! Как, грят! Видала, как воробей червяка глотает? Маленький воробей большого червяка — р-раз! — и нету! И ты так. Воробей червяка может, и ты моги. Глотай! Да я-то не воробей. Я давлюсь, из меня свои кишки вон лезут.
— Для чего глотай-то?
— Сок из нутра качают. Там сок есть.
Савелий кивнул:
— Желудочный сок.
— Кишочный. Глотай! — приступают. Делай глотанья. Без твово соку мы ниче опознать не можем. Они мне силой туды, я выдерьгиваю обратно. Они — туды, я — обратно. Все горло изодрали. Я после неделю ниче, окромя маненькой кашки, пропустить не могла.
— Проглотила кишку-то?
— С третьего разу затолкали. Как вомзили. Не шевельнуться. Я вся омлела, сидю, и уж дыху не стает. Экая, думаю, смертушка мне выпала несуразная. Через каку-то пору выдерьнули, а он, кол-то, все стоит. Подымайся, грят, и иди, а я сдвинуться не могу. Охнуть не могу. Нет, парень, лутше рожать, чем глотать. — От мысли, что то и другое осталось теперь навсегда позади, она протяжно вздохнула, припомнив, что никакая боль, никакая беда не бывает последней, а только следующей да следующей. Припомнила и стала спускать ноги с воза, пора было ехать.
Но Савелий не торопился. Агафьин рассказ остался незаконченным.
— Сок-то дала, че он показал? — спросил он, чудя, пристально, на вытянутой руке рассматривая, прищурив один глаз, окурок.
Посмеиваясь над своей простотой, Агафья сказала:
— А только меня и спрашивать, че он показал. Показал: че-то есть, че-то нету. Как ребятенка похвалили: ты, грят, баба сокастая. А боле ниче не знаю. Ты почто все время щуренишься-то? — спросила она, тоже невольно приспуская веки. — В глаз че попало?
— Попало. То-то и оно, что попало. Мушки маленькие в его залетели и никак не вылетят. — От улыбки, от приятного оживления рябинки на его круглом, подсушенном желтоватом лице тоже задвигались-заходили, сплясали плутоватый танец и затихли опять в ожидании. Было в этом местном мужике, никогда не видавшем иной жизни, кроме войны, что-то неместное, податливое, мягкое. Агафья его знала плохо, знала больше по собраниям, на которые съезжался весь колхозный народ раз в году, помнила, что бригадир он в Ереминой, но земли на левом берегу были еще беднее, чем на правом, и теребился он на собраниях со взыском, критику принимал спокойно и даже как-то благодушно. Ни разу Агафья и не разговаривалась с ним больше нескольких слов, а, приглядевшись теперь, разговорившись, она бы, пожалуй, и удивилась ему сильнее, если бы не это общее светопреставление на Ангаре, на которое не хватало никакого удивления.
Но она догадалась:
— Боишься, что снимут тебя с машины с глазами-то?
— Могут. Леспромхоз усядется, комиссовку будут проводить.
Вблизи поселка, еще не поднятого в рост, неохватно, торопливо наваленного, пугающего своей бесформенностью, прокричал Савелий, перекрывая гуд мотора:
— Давай я тебя на ереминскую улицу завезу? А?
— Где я там буду?
— Рядом со мной. Я потеснюся, места хватит.
— Нет уж, парень, я свое буду обживать. Какое-никакое, а свое будет.
Агафьину улицу, на которой собирались такие же, как она, отделенцы, не попавшие в свою деревню или приткнувшиеся совсем со стороны, быстро назвали Сбродной. Сбродная так Сбродная, в горячке врастания в новую жизнь никого это не задевало. Скатывалась Сбродная под горку по правому боку поселка, если смотреть от Ангары, через четыре поперечные, широко распахнутые улицы-деревни — и в первую же весну шальная талая вода пробила по ней канаву. Сколько потом ни засыпали ее, сколько ни трамбовали, другого хода вода знать не хотела и каждую весну, каждое ненастье с грохотом выпетливала от забора к забору, но как-то не зло, не обрушивая городьбу и постройки. Поэтому оказалось у Сбродной еще одно название — Канава, которое со временем, когда стало забываться, кто откуда наехал в поселок, сделалось единственным. Так и говорили: живу на Канаве. Машинный проезд по ней из конца в конец был невозможен, получился пеший проулок. Избы встали по углам, выходящим на большие улицы, а от угла до угла тянулись стайки да огороды.
Агафье повезло с огородом, ее огород попал на край колхозного поля и ни вырубок, ни корчевки не потребовал. Корчевки ей бы не одолеть. А ограда вся оказалась в пнях, она выдрала их только лет через пять, оставив один — матерый, от ели, по колена высотой, огромный, как столешница, вырисованный, как цветок, лепестковыми овалами, отростками от уходящих в землю могучих лап, взбугривающих пол-ограды. До самой смерти, глядя на этот пень, присаживаясь на него и отирая тряпочкой от грязи и пыли, жалела Агафья, что нет у нее внуков мал-мала меньше, которые с восторгом, криками и ссорами, отталкивая друг друга, громоздились бы на пень и в конце концов умещались бы на нем все, сколько бы их ни было.
Привезли они избу, и та еще две недели непочатым возом лежала на волокушах. Походила Агафья, посмотрела, надрывая сердце, — везде стучат, у всех нескончаемая страда: кто поставил избу, надо ставить жило для скота, хлопотать баньку, огораживаться, класть в избе печь, раздирать огород, пятое, десятое, двадцать пятое. Все заново, все единым навалом, никаких рук не хватает, чтобы успеть. Деревней переезжать — все равно что без огня погореть, а уж когда вся волость, вся долина на полтысячи верст попятилась с насиженных мест в тайгу, бросая могилы и старину, — такое переселение и сравнивать не с чем. Подъем воды обещали через год, но ведь зима на год не отставится, она на носу.
Не раз припомнила Агафья, как говорилось про одиночек: захлебнись ты своим горем. Из глубокой старины пришли они, эти слова, а все никак в прошлое не отойдут. Все к каждой вдовушке подсватываются.
А ведь, проживши на свете пятьдесят лет, она захватила еще старину. Краешком, но захватила. Электричества в Криволуцкой не было, жили с керосиновыми лампами, десятилинейная лампа считалась богатством. Но и керосинки завелись уже при ней, она хорошо помнит, как в детстве жгли лучину и полуночничали возле камелька, как трещало, брызгая искрами, смолье и по лицам, собиравшимся возле огня, играли колдовские всполохи. Ну как тут было на вечерках не подать начин песни, как было не подхватить ее, печальную и сладкую для сердца, и не растаять в ней до восторженного полуобморока, не губами, не горлом выводя слова, да и не выводя их вовсе ничем, а вызваниваясь, вытапливаясь ими от чувственной переполненности. Ничто тогда, ни приемник, ни телевизор, этого чувства не перебивало, не убивало родную песню чужеголосьем, не издевалось над душой, и души, сходясь, начинали спевку раньше голосов. Считается, что душа наша, издерганная, надорванная бесконечными несчастьями и неурядицами, израненная и кровоточащая, любит и в песне тешится надрывом. Плохо мы слушаем свою душу, ее лад печален оттого лишь, что нет ничего целебнее печали, нет ничего слаще ее и сильнее, она вместе с терпением вскормила в нас необыкновенную выносливость. Да и печаль-то какая! — неохватно-спокойная, проникновенная, нежная.