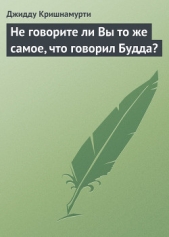Большой дом

Большой дом читать книгу онлайн
«Большой дом» — захватывающая история об украденном столе, который полон загадок и незримо привязывает к себе каждого нового владельца. Одинокая нью-йоркская писательница работала за столом двадцать пять лет подряд: он достался ей от молодого чилийского поэта, убитого тайной полицией Пиночета. И вот появляется девушка — по ее собственным словам, дочь мертвого поэта. За океаном, в Лондоне, мужчина узнает пугающую тайну, которую пятьдесят лет скрывала его жена. Торговец антиквариатом шаг за шагом воссоздает в Иерусалиме отцовский кабинет, разграбленный нацистами в 1944 году. Огромный стол со множеством ящиков связывает эти, казалось бы, параллельные жизни: может наделить своего владельца силой или, наоборот, отнять ее. Для его хозяев стол — воплощенное напоминание обо всем, что сгинуло в водовороте жизни: о детях, родителях, целых народах и цивилизациях. Николь Краусс удалось написать удивительной силы роман о том, как память пытается удержать самое дорогое перед лицом неизбежной потери.
Николь Краусс — новая звезда американской прозы, автор нашумевшего романа «Хроники любви», посвященного ее мужу, знаменитому писателю Джонатану Сафрану Фоеру. «Большой дом» — третий и последний на сегодняшний день роман Краусс. В 2010 году книга стала финалистом Национальной книжной премии, одной из самых престижных литературных наград США.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Осознав, что работать не способна, я целыми днями бродила по улицам Оксфорда, смотрела кино в кинотеатре «Феникс», перебирала книги в букинистическом магазинчике или просто коротала время среди скелетов давно исчезнувших народов, их палок-копалок и треснутых горшков, выставленных в Этнографическом музее Питта Риверса. Я листала, читала, рассматривала, но все шло мимо сознания. Мой разум онемел, затек, как рука или нога, словно зажатый где-то нерв перестал проводить сигналы. Шли недели, и я совсем потерялась. Казалось, из меня в одночасье выкачали все нутро, и теперь пустая оболочка ходит, говорит, как ни в чем не бывало. А внутри-то пустота! Причем не какая-то вялая, апатичная пустота, а отчаянная, тревожная, когда за каждым углом тебя подстерегает зияющее одиночество — вот-вот накинется и не даст шагу дальше ступить. Я видела впереди одни препятствия и совершенно утратила цель. Единственное, о чем я мечтала, — оказаться в своей спальне, в родном доме, в пахнущей стиральным порошком постели, и слышать с дальнего конца коридора приглушенные голоса родителей. Как-то вечером, после долгих и бесцельных скитаний по городу, я остановилась на Сент-Джайлс, у витрины лавки, где продавались деликатесы. Люди входили-выходили, с джемами и паштетами, восточными приправами и соусами, из пакетов торчали длинные батоны, и я вдруг представила своих родителей, как они сидят на кухне, в шлепанцах, как круглятся их спины, когда они склоняются над тарелками, как мелькают картинки с последними известиями на экране крошечного телевизора в углу… Представила — и заплакала.
Может, собраться и уехать? Нет, нельзя. Я боялась огорчить родителей. Они бы не поняли. Именно папа заставил меня послать заявку на стипендию в Оксфорд — прочел за обедом целую лекцию о том, сколько дверей распахнет передо мной такая стипендия. Папа любил говорить про двери, и мне всегда представлялась при этом одна картинка: множество зеркал в родительской ванной, в них отражаются раскрытые дверцы и полки стенных шкафов, и эти отражения сходятся треугольником в бесконечность и одновременно разбегаются во все стороны — тоже в бесконечность, так что в глазах мутится. Папе было совершенно все равно, какие науки мне придется изучать в Оксфорде. Думаю, он считал, что диплом и научная степень столь престижного университета непременно обеспечат мне огромную зарплату и место в инвестиционном банке «Голдман Сакс» или «Маккензи». Но вот я получила стипендию. Стало понятно, что я еду в Оксфорд. И тут моя мама, которая до этого не очень-то вникала в сюжет, пришла ко мне в комнату и стала говорить, как она за меня счастлива. И глаза у нее повлажнели. Нет, она не уверяла, что в юности тоже мечтала попасть в Оксфорд, о несбыточном у нас мечтать не принято. Если такие мечты и были, она не заикалась о них своим родителям-иммигрантам, которым каждый кусок хлеба давался тяжким трудом. Думаю, мама решила поставить крест на любых своих интеллектуальных интересах одним махом, утопить как слепых котят, потому и вышла замуж за отца. Да, ужасно, что у нее не было выбора. То есть ужасно, что ей так казалось. Родители ее были религиозны, а мой отец — нет. И хотя он был на двенадцать лет старше, ей в этом браке виделся единственный способ вырваться из семьи. Вот она и выскочила замуж в девятнадцать лет, в шестьдесят седьмом году. Повремени она несколько лет, может, и набралась бы храбрости для чего-то иного, ведь в ту пору вокруг бурлило столько перемен. Впрочем, тогда я бы вовсе не появилась на свет.
Не стану притворяться, что много знаю о маме и о том, какие потребности и желания она в себе подавила. С годами у нее все хуже получалось скрывать усталость, но свою внутреннюю жизнь, движения души она по-прежнему держала при себе. Только я все равно чувствовала, что природная любознательность и жажда нового в ней живы — может, она и хотела бы от них избавиться, да не могла. На тумбочке возле ее кровати всегда лежала стопка книг, и она читала за полночь, когда все в доме давно спали. Но связь между ее и моей собственной любовью к чтению я уловила много позже. Да, книги в доме водились, но маму я увидела с книгой, когда она уже постарела и у нее появился досуг, а в детстве я ее помню только с газетой. Мама штудировала ее с первой до последней страницы, точно выискивала новости о давно пропавшем, но важном для нее человеке. Пока я училась в Нью-Йорке, не раз заставала ее на кухне с моими программами семестровых курсов — она читала их, беззвучно шевеля губами. Она никогда не спрашивала, что я планирую выбрать, и никаким иным способом не пыталась влиять на мои решения. Я входила в кухню — она тут же закрывала брошюру с программами и возвращалась к своим хозяйственным делам. Вечером, накануне моего отъезда в Англию, мама подарила мне переливающуюся зеленую авторучку фирмы «Пеликан», которую ее дядя Сол подарил ей самой, когда она, еще школьницей, выиграла конкурс на лучшее эссе. Стыдно признаться, но я этой ручкой не написала маме ни единого письма, да чего там — ни слова! Я даже не знаю, где она лежит.
Родители звонили по воскресеньям, и я продолжала пространно рассказывать им, как замечательно провожу время в Оксфорде. Для папы выдумывала истории о дебатах, которые я посетила в Оксфордском дискуссионном клубе, и подробности из жизни других стипендиатов: будущих политических деятелей и юристов с острыми локтями, а также бывшего спичрайтера, который писал речи для Бутроса Бутроса-Гали. Для мамы я описывала Фонд герцога Хамфри в Бодлианской библиотеке, где можно заказать оригиналы рукописей Томаса Стернса Элиота или Йейтса, и рассказывала про ужин в Крайст-Черч, за особым столом на возвышении, специально для академиков — меня пригласил туда А. Л. Пламмер еще до того, как разделал мою диссертацию под орех. На самом же деле положение мое становилось все хуже и хуже. Мне было уже трудно выходить из дому, встречаться с людьми. Все — даже открыть рот и заказать бутерброд в буфете — требовало неимоверного напряжения, я наскребала крупицы решимости в самых дальних закоулках своего существа. Я лежала у себя в комнате, завернувшись в одеяло, и поскуливала или громко разговаривала сама с собой, вспоминая юность и былую славу, когда и я сама, и все вокруг считали меня умным и способным человеком. А теперь все это осталось в прошлом. Мне оставалось только гадать, похоже ли то, что я испытываю, на психический надлом, который подстерегает самого заурядного человека, ведущего самую заурядную жизнь, и заманивает его в неведомое, предрекая муки и страдания.
В первую неделю ноября я пошла в «Феникс» на один из моих самых любимых фильмов — «Зеркало» Тарковского. Фильм кончился, зажегся свет, а я все сидела там, плача или почти плача. Наконец я взяла свои вещи и встала, а в вестибюле столкнулась с умным горластым студентом-политологом из голубых по имени Патрик Клифтон, мы с ним были на одинаковых стипендиях. Сверкнув мелкими острыми зубами, он пригласил меня в гости, в этот же вечер. Вообще в таком виде на вечеринки не ходят. Почему я не отказалась, не знаю. От отчаяния или, возможно, сработал инстинкт самосохранения — вдруг это поможет мне выпутаться? Но едва я вошла в двухэтажный дом в южной части Оксфорда, как тут же пожалела, что согласилась. Интерьеры давили тяжелой цветовой гаммой — одна комната фиолетовая, другая зеленая, — и мрачное ощущение усугублялось музыкой, для которой у меня нашлось только одно название: траурный марш эпохи неолита. Люди поднимались вверх по лестнице, и в комнате, где музыка звучала громче всего, перетаптывалась пестрая толпа — все тела раскачивались по отдельности и казались безразличными друг другу. В глубине виднелась длинная кухня-стенка с треснувшим грязным кафелем; из ведерок со льдом торчали пивные бутылки. Минут через двадцать я потеряла из виду Патрика и, не умея найти себе применения, отправилась в туалет. Он обнаружился на втором этаже, но там было занято, и я, прислонившись к стене, стала ждать. Изнутри донесся смех, смеялись двое или даже трое. Да, вряд ли они выйдут в обозримое время, думала я, но продолжала стоять. Еще через десять минут в коридоре, подсвеченном синими светильниками, материализовался Йоав Вайс. Я узнала его мгновенно, потому что он был ни на кого не похож: густые темно-рыжие волосы курчавились и падали на лоб, лицо длинное, узкое, очень широко посаженные темные глаза, прямой нос с раскрыльями ноздрей, полные, слегка сползающие вниз губы, лицо это умело быть блаженно прекрасным и, спустя всего лишь миг, дьявольским, ужасным. Казалось, оно дошло к нам без всяких изменений из эпохи Возрождения или даже из Средневековья. Вот и ты, произнес он и улыбнулся криво, уголком рта.