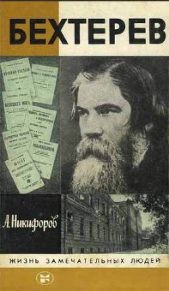Невыдуманные рассказы о невероятном

Невыдуманные рассказы о невероятном читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1991 г.
Профессор Бенджамин Орен перекатывал во рту леденец. Стюардесса, официальная, как пресс-атташе государственного секретаря, подала ему леденец на подносе.
Неудобное кресло самолета "Ан-24" и окутывающая, вероятно не только его, недоброжелательность послужила импульсом для сравнительной оценки авиакомпаний.
Из Сан-Франциско в Нью-Йорк и дальше в Москву он летел самолетами компании "Пан-Америкен". Бизнес класс был здесь вполне удовлетворительным, хотя заметно уступал бразильским или таиландским лайнерам.
Но всем авиакомпаниям профессор Орен предпочитал "Эл-Ал". Он знал, что в израильских самолетах "мальчики" надежно защищают его от террористов. Но "мальчики" не бросались в глаза. Стюарды и стюардессы ненавязчиво преодолевали барьер официальности. Атмосфера большой семьи возникала с первых минут полета. Не было необходимости заблаговременно заказывать кошерную пищу: в "Эл-Ал" не было некошерной.
Профессор Орен не терпел фанатизма, но признавал только ортодоксальный иудаизм.
В науке и в жизни профессор был максималистом. Научная работа должна быть фундаментальной, отлично аргументированной. Предположения годятся лишь на первой стадии, когда созревает научная гипотеза. Но сама работа должна включать только отлично документированные объективные данные продуманных и точных исследований. Убедительный факт, перед которым, как говорил Павлов, следует снять шляпу.
Именно этот максимализм выдвинул профессора Орена в когорту выдающихся нейрофизиологов.
К религии он тоже подходил с позиций ученого. Объективных данных было предостаточно, чтобы не сомневаться в существовании Творца. Можно быть верующим или неверующим. К последним у профессора Орена не было претензий. Можно быть верующим и не религиозным.
Возможно, сам он был религиозным потому, что воспитывался любимым дедом, раввином, эмигрировавшим из России.
Но к реформистам профессор относился с несвойственным ему пренебрежением. Он сравнивал их с некоторыми коллегами, которые ничего не привнесли в науку, а широкой публике громко известны только благодаря навязчивому популяризаторству и хорошо организованной рекламе. Они даже чем-то вредны науке, создавая в сознании обывателя далекий от реального образ ученого.
Профессор поправил сползавшую ермолку. Он вспомнил московскую синагогу, в которой молился вчера вечером.
Странно… В институте физиологии нервной деятельности он чувствовал себя свободно, в привычной обстановке – и это, несмотря на недостаточное знание русского языка. А тут, в синагоге, его отторгала какая-то искусственность, природу которой он не мог понять ни вчера вечером, ни сейчас.
Во Флоренции, в Токио, во Франкфурте – в любой синагоге, даже без языкового контакта с молящимися, обращаясь с молитвой к Богу, он чувствовал Его присутствие. В Москве у него был языковый контакт с евреями, проявлявшими к нему явный интерес. Но что-то мешало ему сосредоточиться во время молитвы. Несколько раз он ловил на себе взгляд раввина, и взгляд этот, казалось, принадлежал не духовному лицу, а служителю ведомства, к которому американский интеллектуал не мог питать симпатий.
В Сухуми профессора Орена встретила представительная делегация физиологов.
Ему понравились институт и обезьяний питомник. Несколько докладов на симпозиуме произвели на него хорошее впечатление. А его доклад, прочитанный на русском языке, был принят с восторгом.
После приятного рабочего дня не менее приятной оказалась прогулка по праздничной набережной, заполненной беззаботными курортниками. Большой иллюминированный теплоход "Шота Руставели" был пришвартован к причалу у самой набережной в ожидании отплытия. Громогласное общение пассажиров на палубах с оставшимися на берегу. Преобладание гортанной речи, придававшей еще больше пряности романтике южного порта.
В гостиницу он вернулся поздно вечером, слегка перегруженный отличным грузинским вином.
Рано утром профессор не без труда разыскал синагогу, хотя дежурный администратор, молодой предупредительный грузин, очень подробно объяснил, где она находится, и даже вполне профессионально нарисовал схему улиц.
Молящихся было немного. В отличие от Москвы, здесь он почувствовал себя на месте, хотя окружавших его евреев до начала молитвы он ни за что не отличил бы от грузин или абхазцев.
Профессор сложил талит и тфилин в синий бархатный чехол, на котором золотыми ивритскими буквами было вышито изречение из Библии, и попрощался с оставшимися в синагоге евреями. Он должен был успеть позавтракать до того, как за ним в гостиницу приедут из института.
Но евреи сердечно пожимали его руку, не торопясь расстаться с ним. Профессор почувствовал, что не только сердечность этой встречи отдаляет момент, когда он сможет покинуть гостеприимную синагогу.
Несколько коротких фраз на грузинском языке, которыми обменялись евреи. Какая-то скрываемая тревога повисла в воздухе…
Профессор Орен не ошибся. Невысокий плотный еврей средних лет в фуражке, под которой могла бы спрятаться голова лошади, смущаясь, произнес:
– Прастите, дарагой. Панимаете, мы, евреи, нэ любим себя афишировать. – Он прикоснулся к бархатному чехлу с ивритскими буквами, вышитыми золотом.
– Панимаете, дарагой, было бы очин харашо, чтобы вы завернули это. Нэ надо, чтобы видели чужие…
Стоявший рядом еврей тут же услужливо подал газету. Настроение было испорчено.
Накрапывал теплый летний дождик.
Неторопливой походкой к профессору Орену направился долговязый милиционер – то ли грузин, то ли абхазец. Он лениво ткнул пальцем в сверток, завернутый в уже слегка намокшую газету:
– Что это там у тебя?
Профессор Орен был выше среднего роста. Но он посмотрел на милиционера снизу вверх и спокойно ответил.
Крупнейший в мире нейрофизиолог мог бы проанализировать, сколько миллисекунд длился импульс из подкорки в кору головного мозга, пока отрицательная эмоция возбудила участок коры, хранивший память, пока по отросткам нервных клеток импульс достиг височной области мозга, пока двигательный центр речи послал команду мышцам гортани, языка и лица.
Но главным была память. Профессор Орен помнил талмудический рассказ.
… В ту пору, когда в Римской империи исповедание иудаизма было объявлено вне закона и каралось смертной казнью, верующий еврей вышел из подпольного молельного дома с тфилин, скрываемыми в сжатом кулаке.
К еврею подошел вооруженный центурион и грозно спросил, указывая на сжатый кулак:
– Что это у тебя?
Еврей окаменел от страха. Он даже не подумал о смысле произнесенного ответа:
– Крылья голубя.
– Крылья голубя? Покажи.
Крылья смерти прошелестели над обреченным евреем. Он разжал кулак.
На раскрытой ладони лежали… крылья голубя. Центурион с удивлением посмотрел на руку еврея, на крылья голубя и медленно, оглядываясь, пошел по пустынной улице.
С тех пор, говорит Талмуд, евреи во всем мире укрепляют ремешки тфилин в виде крыльев голубя.
…Профессор Орен стоял перед советским "центурионом" на пустынной сухумской улице. Теплый дождик прибил пыль. Капля сорвалась с листа олеандра и ударила по газете, в которую был завернут бархатный чехол с талит и тфилин. Конечно, Советский Союз – не Римская империя. Определенно, посещение синагоги не карается смертной казнью. И все же профессор Орен не смог бы объяснить, почему на вопрос милиционера "Что это там у тебя?" он вдруг ответил на иврите:
– Канфей иона.
Маловероятно, что милиционер, грузин или абхазец, знал иврит. Маловероятно, что до него дошел смысл сказанного. Канфей иона – крылья голубя.
Но милиционер с удивлением посмотрел на сверток и медленно, оглядываясь, пошел по пустынной улице.
В этот день профессор был недостаточно внимателен во время симпозиума. Мысли его по непредсказуемым тропинкам убегали от докладов, возвращали профессора в синагогу к встревоженным евреям, от них – к длинному милиционеру, а затем еще дальше – в прошедшие века, на улицу Древнего Рима.