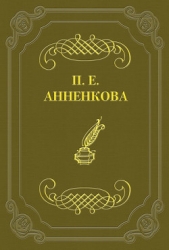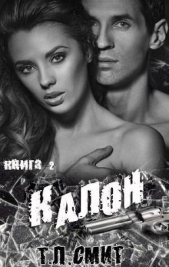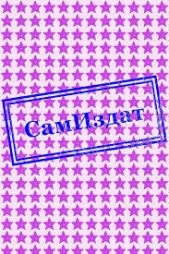Кровавая комната
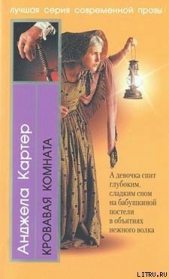
Кровавая комната читать книгу онлайн
Синяя Борода слушает Вагнера и увлекается символистами. Кот в сапогах примеряет роль Фигаро. Красная Шапочка зубастее любого волка. Любовь Красавицы обращает зверя в человека, но любовь Чудовища делает из человека зверя.
Это — не Шарль Перро. Это — Анджела Картер, удивительная и неповторимая. В своем сборнике рассказов, где невинные сюжеты из Шарля Перро преобразуются в сумрачные страшилки, готические и эротические, писательница добилась ослепительного совершенства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но едва лишь он закончил со своей порцией, как старуха опрометью бросилась подавать ему добавку и, кроме того, вела себя с ним так предупредительно и любезно, что он с уверенностью мог уже рассчитывать не только на ужин, но и на ночлег в замке, так что он живо упрекнул себя в собственных детских страхах по поводу царившей здесь жуткой тишины и неприветливого холода.
Когда он покончил и с добавкой, старуха подошла к нему и жестами показала, что ему надлежит выйти из-за стола и снова следовать за ней. Она изобразила, будто что-то пьет, из чего он сделал вывод, что его приглашают в другую комнату выпить чашечку кофе в обществе кого-нибудь более высокопоставленного, не пожелавшего разделить с ним трапезу, но желающего познакомиться. Без сомнения, ему оказывали честь; чтобы не ударить в грязь лицом перед хозяином, он поправил галстук и смахнул крошки со своей твидовой куртки.
Он был очень удивлен, когда обнаружил, какая разруха царит внутри дома — повсюду паутина, прогнившие балки, осыпавшаяся штукатурка; но немая старуха, освещая дорогу своим путеводным фонарем, решительно вела его бесконечными петляющими коридорами и винтовыми лестницами, вдоль галерей, где, проходя мимо семейных портретов, он видел, как на мгновение вспыхивают и гаснут нарисованные глаза, принадлежащие, как он заметил, лицам, каждое из которых несло на себе отпечаток чего-то звериного. Наконец она остановилась перед какой-то дверью, за которой он различил негромкий металлический перезвон, как будто кто-то брал аккорды на клавесине. А затем — о чудо! — он услышал певучую трель жаворонка, донесшую до него, в самом сердце (хоть он об этом и не догадывался) могилы Джульетты, всю свежесть утра.
Старуха постучала костяшками пальцев по дверной панели; самый нежный, самый чарующий голос, какой он когда-либо слышал в своей жизни, тихо отозвался из-за двери, с сильным акцентом произнеся на излюбленном румынской аристократией французском:
— Entrez [21].
Первое, что он увидел, был расплывчатый полутемный силуэт, желтовато отражавший толику слабого света, рассеянного в воздухе тускло освещенной комнаты; и надо же, затем этот силуэт обернулся платьем с кринолином — платьем, сшитым из белого атласа и украшенным кружевами, платьем, вышедшим из моды лет пятьдесят или шестьдесят назад, но когда-то, безусловно, предназначенным для свадьбы. И наконец он разглядел девушку, одетую в это платье, хрупкую, как крылья мотылька, настолько тонкую и бесплотную, что, казалось, платье само висит в промозглом от сырости воздухе, как предмет из сказки, как самодвижущийся костюм, в котором она жила, словно привидение внутри механизма. Единственный в комнате свет исходил от тускло горящей лампы под толстым зеленоватым абажуром, стоящей на каминной полке в дальнем углу; сопровождавшая его старуха заслонила рукой свой фонарь, как будто оберегая хозяйку, чтобы она не сразу его увидела, или же чтобы он не сразу разглядел ее.
Однако мало-помалу глаза его привыкли к полумраку, и он увидел, как прекрасна и как молода эта выряженная словно пугало девушка, и подумал, что перед ним дитя, напялившее платье матери; быть может, эта девочка надела платье покойной матери, чтобы хоть ненадолго вернуть ее к жизни.
Графиня стояла позади низкого столика рядом с глуповато-красивой раззолоченной птичьей клеткой, отчаянно раскинув в воздухе руки, словно стремясь взлететь, и, казалось, была поражена его приходом, как будто не сама пригласила его сюда. Ее неподвижное белое лицо и изящная мертвая головка в обрамлении темных волос, которые ниспадали абсолютно вертикально, будто совсем мокрые, напоминали невесту, пережившую кораблекрушение. Когда он увидел потерянный, как у брошенного ребенка, взгляд ее огромных темных глаз, у него защемило сердце; и вместе с тем его тревожил, почти отталкивал вид ее необычайно чувственного рта с большими, пухлыми, выпуклыми, пурпурно-красными яркими губами, это был отвратительный рот. И даже — он тотчас же прогнал эту мысль от себя — рот уличной девки. Ее непрестанно била дрожь, холодный озноб, малярийная лихорадка, пронизывающая до костей. Он подумал, что ей, должно быть, не больше шестнадцати-семнадцати лет, а ее болезненная красота — это красота чахоточной. И она была хозяйкой всего этого гниения.
С нежностью соблюдая все предосторожности, старуха подняла повыше свой фонарь, чтобы показать хозяйке лицо ее гостя. И вдруг графиня издала слабый стон и, словно в ужасе, невольно заслонилась руками, как будто желая оттолкнуть его, но ударилась о стол, и пестрый веер карт разлетелся по полу. Рот ее округлился в горестном «о!», она слегка покачнулась и, как подкошенная, рухнула в кресло, словно не в силах больше пошевелиться.
Странная манера принимать гостей. Бормоча что-то себе под нос, старуха деловито зашарила по столу, пока наконец не отыскала пару очков с темно-зелеными стеклами, какие носят слепые бродяги, и напялила их на нос графини.
Он подошел, чтобы собрать карты с ковра, и с удивлением обнаружил, что этот ковер наполовину истлел, а наполовину покрыт ядовитой плесенью. Он собрал карты и тщательно перемешал их, поскольку для него они не значили ничего, хотя казались ему странной игрушкой в руках молодой девушки. Что за жуткая картинка с дрыгающимся скелетом! Он накрыл ее картой повеселее — с двумя молодыми любовниками, улыбающимися друг другу, — и вложил игрушку обратно в ее руку, такую тонкую, что под прозрачной кожей можно было разглядеть хрупкую паутину косточек, в эту руку с длинными и остро заточенными, как плектры для банджо, ногтями.
При его прикосновении она, казалось, немного ожила и, поднимаясь, изобразила на лице подобие улыбки.
— Кофе? — предложила она. — Вам надо выпить кофе.
Она сгребла оставшиеся карты в кучку, освобождая старухе место, чтобы та могла поставить перед ней серебряную спиртовку, серебряный кофейник, кувшинчик со сливками, сахарницу и чашки, которые уже были приготовлены на серебряном подносе — странный налет изящества, пусть и поблекшего, посреди этого запустения, хозяйка которого блистала нездешним светом, словно сама излучала меркнущее, подводное свечение.
Старуха отыскала для него стул и, беззвучно хихикая, ушла, после чего в комнате стало немного темнее.
Пока девушка разливала кофе, у него было время рассмотреть с некоторым отвращением остальные семейные портреты, которые украшали запятнанные и облупившиеся стены комнаты; казалось, все эти бледные лица были искажены каким-то лихорадочным безумием, а их одинаково распухшие губы и огромные, безумные глаза обладали тревожащим сходством с губами и глазами несчастной жертвы близкородственных браков, которая в это время терпеливо процеживала ароматный напиток, хотя в ее случае эти черты сделались несколько более утонченными благодаря ее редкостному изяществу. Исполнив свою песню, жаворонок давно умолк; вокруг ни звука, кроме звенящего постукиванья серебра о фарфор. Вскоре она подала ему миниатюрную чашечку из китайского розового фарфора.
— Прошу вас, — сказала она своим голосом, в котором слышались отзвуки океанского ветра, голосом, словно исходящим откуда-то со стороны, а не из ее белого, неподвижного горлышка. — Добро пожаловать в мой замок. Я редко принимаю гостей и сожалею об этом, ибо ничто не может развлечь меня больше, чем присутствие кого-либо постороннего… Здесь стало так одиноко после того, как опустела деревня, а моя единственная компаньонка — увы! — не может говорить. Зачастую мне приходится так долго молчать, что кажется, будто я тоже скоро разучусь говорить и больше уже никто не обмолвится со мною ни словом.
Она предложила ему сахарное печенье на тарелочке из лиможского фарфора; старинный фарфор мелодично зазвенел под ее ногтями. Ее голос, исходящий от этих красных губ, похожих на жирные розы в ее саду, губ неподвижных, — ее голос был до странности бесплотным; она словно кукла, думал он, кукла чревовещателя или, скорее, словно необычайно хитроумный механизм. Казалось, какая-то скрытая энергия придавала ей несоразмерную силу, над которой она сама была не властна; как будто ее механизм был заведен много лет назад, при ее рождении, но теперь его завод неумолимо кончается и вскоре механизм совсем остановится. Мысль о том, что она может быть всего лишь механической куклой, сделанной из белого бархата и черного меха, которая не способна действовать по собственной воле, нисколько не повергла его в разочарование; напротив, она глубоко взволновала его сердце. Карнавальный облик ее белого платья только усиливал впечатление ее нереальности, она была похожа на печальную Коломбину, давным-давно заблудившуюся в лесу, которая так и не смогла попасть на ярмарку.