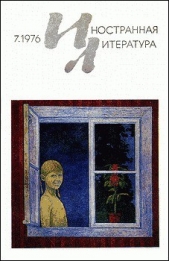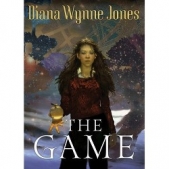Нечего бояться

Нечего бояться читать книгу онлайн
Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс — один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «История мира в 10 1/ 2главах», «Любовь и так далее», «Метроленд», и многих других. Возможно, основной его талант — умение легко и естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство — Барнсу подвластно все это и многое другое. В книге «Нечего бояться» он размышляет о страхе смерти и о том, что для многих предопределяет отношение к смерти, — о вере. Как всегда, размышления Барнса охватывают широкий культурный контекст, в котором истории из жизни великих, но ушедших — Монтеня и Флобера, Стендаля и братьев Гонкур, Шостаковича и Россини — перемежаются с автобиографическими наблюдениями.
Впервые на русском.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я видел двух мертвецов и прикасался к одному из них; однако я никогда не видел, как человек умирает, и, возможно, так и не увижу, пока не стану умирать сам. Если, когда смерти стали по-настоящему бояться, разговоры о ней сошли на нет, а с увеличением срока жизни вспоминать о ней стали и того реже, теперь она и вовсе ушла из повседневности просто потому, что ее нет с нами, в наших домах. Сегодня мы делаем все, чтобы смерть была как можно менее заметной; она стала частью процесса (врач — больница — похоронное бюро — крематорий), в ходе которого профессионалы и бюрократы руководят нами до того момента, когда мы остаемся сами по себе и стоим среди живых с бокалом в руке и учимся, неловкие, скорбеть. Но еще не так давно умирающий проводил последние дни у себя дома, кончался в кругу семьи, местные женщины омывали его тело, близкие проводили у тела ночь-другую в бдениях, после чего местный же гробовщик привозил свое творение. Мы, как Жюль Ренар, пошли бы пешком за покачивающимся, запряженным лошадью катафалком на кладбище, где наблюдали бы, как гроб опускают в могилу, на краю которой корчится жирный червь. Мы были бы более внимательны и уместны. И им хорошо (хотя брат опять скажет, что я толкую о несуществующих желаниях мертвецов), и нам, наверное, тоже. Старая система подразумевала более степенный переход от жизни к смерти и от смерти к забвению. Та спешка, в которой это происходит сегодня, безусловно, правдиво отражает наше видение — сейчас ты жив, а через минуту помер, и помер безвозвратно, так что давайте прыгнем в машину и покончим с этим поскорее. (На чьей машине поедем? Не на той, на какой хотела бы она.)
Стравинский пришел попрощаться с Равелем, пока тело не положили в гроб. Тело лежало на столе, покрытом черной скатертью. Все было черным или белым: черный костюм, белые перчатки, белый больничный колпак по-прежнему покрывал голову, черные морщины на очень бледном лице, на котором застыло «величественное выражение». На этом величие смерти и закончилось. «Я пошел на погребение, — писал Стравинский, — унылое зрелище, из тех похоронных церемоний, где все происходит сугубо по протоколу». Это было в Париже в 1937 году. Когда тридцать четыре года спустя пришел черед Стравинского, его тело доставили самолетом из Нью-Йорка в Рим, потом перевезли в Венецию, где повсюду были расклеены пурпурно-черные траурные прокламации: «ВЕНЕЦИЯ СКЛОНЯЕТ КОЛЕНИ ПЕРЕД ОСТАНКАМИ ВЕЛИКОГО МУЗЫКАНТА ИГОРЯ СТРАВИНСКОГО, КОТОРЫЙ В ПРОЯВЛЕНИЕ КРАЙНЕЙ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И ДРУЖБЫ ИЗЪЯВИЛ ВОЛЮ БЫТЬ ПОХОРОНЕННЫМ В ГОРОДЕ, КОТОРЫЙ ОН ЛЮБИЛ БОЛЬШЕ ДРУГИХ». Архимандрит Венеции отслужил в базилике Святых Джованни и Паоло панихиду по греческому православному обряду, после чего гроб пронесли перед статуей Коллеони и далее на плавучем катафалке в сопровождении четырех гондол доставили на кладбищенский остров Сан-Микеле, где архимандрит и вдова Стравинского бросили на опускаемый в склеп гроб по горсти земли. Франсис Стигмюллер, великий исследователь Флобера, описал события того дня. По его словам, когда кортеж следовал от церкви к каналу, из каждого окна свисали венецианцы, и вся сцена напоминала «одно из пышных полотен Карпаччо». Все это, конечно, выходило далеко за рамки протокола.
Пока я не увижу, как умираю сам. Вы бы предпочли сознавать, что умираете, или оставаться в неведении? (Есть еще третий — и весьма популярный — вариант, когда больного вводят в заблуждение, будто он выздоравливает.) Но в таких желаниях следует соблюдать осторожность. Рой Портер хотел быть в полном сознании: «Потому что иначе вы просто пропустите нечто весьма важное». Далее он пояснял: «Естественно, никто не хочет испытывать мучительную боль и все, что с этим связано. Но, полагаю, любому захочется, чтобы рядом были люди ему небезразличные». Вот на что Портер надеялся, а вот что ему выпало. Ему было пятьдесят пять лет, незадолго до этого он рано вышел на пенсию, переехал в Суссекс со своей пятой женой и зажил свободным писателем. Он возвращался на велосипеде домой из своих владений (сложно не представить себе проселочную дорожку, похожую на ту, где Бертрана Рассела осенило относительно его брака), когда его сразил сердечный приступ, и он умер один, на обочине. Было ли у него время проследить, как он умирает? Была ли его последней мыслью надежда, что он очнется в больнице? Свое последнее утро он провел, сажая горох (наверное, это самое близкое к пресловутой французской капусте). Домой он вез букет цветов, которые в одно мгновение превратились в придорожный памятник ему же.
Мой дедушка сказал, что нет в жизни чувства хуже, чем угрызения. Моя мать не поняла этого высказывания, а я не знаю, к каким событиям его отнести.
Смерть и угрызения I. Когда Франсуа Ренар, проигнорировав совет сына использовать клизму, вместо этого взял дробовик и при помощи трости выстрелял дуплетом, после чего «над поясом возникло темное пятно, похожее на небольшое пепелище», Жюль написал: «Я не корю себя за то, что недостаточно его любил. Я корю себя за то, что его не понял».
Смерть и угрызения II. С тех пор как я прочел эту строчку из дневников Эдмунда Уилсона, она преследует меня. Уилсон умер в 1972 году; описываемые события произошли в 1932-м, прочел я о них в 1980-м, когда были опубликованы «Тридцатые».
В начале того десятилетия Уилсон женился второй раз — на некой Маргарет Кэнби. Это была приземистая дамочка из высшего общества, с насмешливым лицом и «вкусом к шампанскому»: до Уилсона она не знала никого, кто бы сам зарабатывал себе на жизнь. В «Двадцатых» — предыдущем томе своих дневников — Уилсон упоминает ее как «лучшую собутыльницу из всех, что я знаю». Там же зафиксированы его первые намерения на ней жениться, как и благоразумные сомнения: «Хоть мы и ладили, общего у нас не так уж много». Но они таки поженились, и их алкоголический союз с самого начала был отмечен неверностью и частыми расставаниями. Если у Уилсона были сомнения относительно Кэнби, то у нее к нему возникали вопросы посерьезнее. «Ты, Банни Уилсон, человек холодный и невыразительный, как снулая рыба», — выдала она ему однажды, и фразу эту со свойственной ему безжалостностью он сохранил в дневнике.
В сентябре 1932 года, состоя в браке всего два года, они в очередной раз разошлись. Маргарет Кэнби жила в Калифорнии, Уилсон — в Нью-Йорке. Однажды она пошла на вечеринку в Санта-Барбаре и надела туфли на высоком каблуке. Выходя с вечеринки, она оступилась, покатилась по каменной лестнице, разбила череп и умерла. Этому событию мы обязаны сорока пятью страницами дневника Уилсона, наполненными самыми честными словами скорби и самобичевания, когда-либо ложившимися на бумагу. Записи Уилсона начинаются, когда его самолет медленно, на бреющем полете движется на запад, как будто это литературное усилие поможет ему сдерживать эмоции. В следующие несколько дней эти короткие записи раскрываются в потрясающий монолог, в котором есть и преклонение, и эротические воспоминания, и отчаяние, и угрызения совести. «Ужасный вечер, но в моих воспоминаниях даже он представляется чудесным», — пишет он. В Калифорнии мать Кэнби требует от него: «Ты должен верить в бессмертие, Банни, должен!» Но он не верит и не может верить: Маргарет мертва, ее не вернуть.
Уилсон ничего не скрывает ни от себя, ни от своего предполагаемого читателя. Он припоминает каждый язвительный упрек, когда-либо произнесенный Кэнби. Однажды она сказала своему вечно недовольному мужу, что эпитафия на его надгробии должна быть такая: «Пойди-ка приведи себя в порядок». Он с восхищением вспоминает ее: в постели, на вечеринке, в смущении, в слезах. Он вспоминает, как, когда они занимались любовью на пляже, отгонял мух, и превозносит ее «хитроумное» тело с короткими конечностями. («Не говори так! — возмущалась она. — Можно подумать, будто я черепаха!») Он вызывает в памяти ее неосведомленность в практических вопросах, лишь прибавлявшую ей очарования в его глазах («Я выяснила, что это у нас там за дверью, — это чечевица»), и тут же цитирует ее непрекращающиеся жалобы: «Однажды я сверну себе шею. Ну почему ты не хочешь мне помочь?» Она сетовала, что он относится к ней, как к очередному предмету роскоши, как к духам «Герлен»: «Ты бы порадовался, если б я умерла, сам же знаешь».