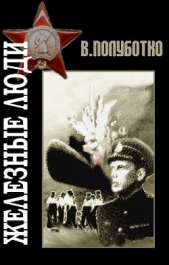Гул (СИ)

Гул (СИ) читать книгу онлайн
Тяжко вздыхает лес. Не от ветра ломит ветви. Это в чаще стучат топоры.
Люди ставили шалаши, строились. Днем прятались от большевиков. По ночам прятались от гнуса в женщинах. Сурово качался лес. Еще помнила иссохшая осина, как рабочие руки корчевали деревья, чтобы проложить путь паровозу. Вскоре дождю пришлось смывать сажу с листьев, но уже в августе они падали в траву мелкой монетой. А сосновому пеньку вспомнилось, как люди брали лучшие деревья в плен — делали из них шпалы. Много зла принесли те люди, потому радостно загудел старый ясень, когда увидел, как вышли бородачи на железнодорожное полотно.
Партизаны подогнали к насыпи несколько битюгов. Сбили глухари, крепившие рельсы к шпалам. Обвязали железные полосы веревками и стегнули по лошадям. Те с натугой пошли вниз, и понемногу гнулись рельсы. Шумел урман, гуляло по просеке деревянное эхо: деревья ждали. Пусть люди вернутся, пусть снова будут бить топором по корням, но раз паровоз их враг, то мы им все, все простим!
Так думали деревья.
Бронепоезд мчал через леса и поля в край единоличников да спекулянтов. Вез с собой злые буквы — ЧОН. Красные буквы, литера к литере. Не часть особого назначения, а прямо-таки орден с Вифлеемской звездой на буденовке. Готовы чоновцы вытрясти толстые амбары и даже кулацких мышей забрать — на опыты в большевистскую лабораторию.
В Тамбове бронепоезд накормился углем, залил станцию струей мутной воды и подобрал на борт новых бойцов во главе с посланцем Губчека. Потянулся состав на юго-восток губернии, где еще теплилось недобитое восстание.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рошке ехидно, насколько это позволяло происхождение, подытоживал:
— Потому что за такую постановку вопроса мы сразу же отправляем в Могилевскую губернию.
Чекист не нравился Федьке. Был он весь немецкий, не наш, очень уж брезгливый в своих круглых очках. Бледно улыбался лишь при упоминании котангенсов. Комиссар тоже был человеком крутым — до сих пор гудело в ушах эхо паревского расстрела, — но в то же время казался Мезенцев милее, родимее, что ли. Тянуло к нему Канюкова, точно к потерянному отцу. «С ним не страшно», — думал Федька, проходя место, где обнаружил располосованного Клубничкина.
— Комиссар — наш, большевик, а Рошке — окаянный коммунист, — без страха сказала Федьке местная бабка.
При расстреле у нее погиб муж, и теперь она ласково поила мальчишку молоком. Когда Федька пил, по безусому подбородку текли две теплые струйки. Молоко он выменял на подшивочный материал, да только вот чудеса — никакой коровы у старухи не было. Откуда же тогда взялось молоко? Сама себя доила, пройдоха? Не, куда там! Хитрые паревцы заранее угнали скот в потаенные камыши. Отправится бабка в утренний туман, насобирает его в подол, выжмет в холодке — вот тебе и крынка молока. А сходит босая девка до оврага, где на Руси, известное дело, испокон веков поросятки водятся, — так палку чесночной колбасы принесет.
К Федьке паревцы относились ласково, как к единственной кобыле. Еще по весне командование обязало красноармейцев и мобилизованных оказывать помощь беднякам и середнякам. Канюков впрягался в плуг вместо поеденной лошади или тащил за собой борону. Почуяли люди ответную доброту: никого Канюков не ругал, не бил и не стрелял, хотя имел на то полную власть. На селе как раз не хватало подросших мальчишек, большинство которых ушли к антоновцам и уже никогда не вернутся назад. Вот и звали к себе Федьку подобревшие паревские женщины.
Это казалось ему странным. Неужто человеческая память так коротка? Неужто достаточно щелкнуть над крестьянской головой бичом, чтобы она тебя полюбила? И как могут девки, лишившиеся отцов и братьев, с черемуховым смешком ходить за красноармейцами? Девки... девки никогда не меняются. Во все времена они бегают за героями и подлецами.
В Паревке была расквартирована часть особого назначения, прибывшая из Москвы и подкрепившаяся тамбовской чекой. Был продотряд, собранный по тамбовским заводам, оттуда и сам Федька вышел. Местная коммунистическая ячейка тоже была. В уже замиренное село пригнали даже желторотых курсантов. В общем, народу было хоть отбавляй: пришлые люди заменили убитых, село казалось таким же полнокровным, как и раньше, может, поэтому не чувствовали крестьяне обиды за то, что большевики устроили церковный расстрел? Или дело было в Евгении Витальевиче Верикайте?
Латыш, как только оклемался, сразу же ввел комендантский час. Комполка объявил, что он, как участник выездной сессии губернской чрезвычайной комиссии, имеет право на бессудный расстрел. Обещанную кару он, правда, не применял. Сказано было для острастки Паревки, которая по всем документам числилась злобандитским местом. Хотя Мезенцев его хорошо подлечил: кого не добил пулемет, тот был отправлен в концлагеря. Верикайте зачитывал крестьянам цифры: в заложниках на июль месяц числилось почти две тысячи семей и более пяти тысяч одиночек.
— Вот, товарищи, — поднимался к небу короткий палец, — растет население Могилевской губернии.
Верикайте говорил медленно, широко расставляя слова. Местный люд его не очень понимал, да и считал большевистские цифры с трудом, внушаясь не от них, а от толстых ног в оранжевой коже и скрипящего на жаре оранжевого же френча. Верикайте от солнца не потел, словно не человеком был, а балтийской рептилией. Когда смотрели в зеленые глаза крестьяне, то робели, будто видели перед собой удава.
Навел Евгений Витальевич в Паревке порядок. Никто больше не отбирал полпуда муки в подарок Ленину. Все по законному продналогу, который сам как плетка, но крестьяне теперь понимали, за что их бьют, и кивали — так лучше, так правильней. С большака исчезли пьяненькие красноармейцы, которые раньше любили погонять кур и догнать парочку девок. По ночам больше не подползали к крайним избам антоновские разведчики. А если подползали и осторожно стучали в дверь, то им никто не отворял. Узнает хромой латыш — хуже будет. Очень боялись паревцы таинственного слова «начпогуб», которое Верикайте произносил со зловещим прибалтийским акцентом.
— Начпогуб поручил проконтролировать состояние дел в уезде... Начпогуб уведомил... Начпогуб послал разнарядку...
В аббревиатуре «начпогуб» слышался не начальник политического отдела губернии, а начальник по гублению. Ему и церковь местная подвластна. Отдали ее под склад — хранить доступные для жизни продукты. Интересный Верикайте поставил вопрос: раз люди на причастии Бога кушают, можно ли сделать наоборот?
Бесстрастно ковылял Верикайте по Паревке. Сверкал на солнце оранжевый френч, точно отблеск рабочего пламени, — вот она, власть, наводит железный порядок. Ни красноармейцы, ни крестьяне, ни этапируемые в концлагерь пленные не догадывались, что Евгений Верикайте так часто обозревал село из-за большого страха. Он ждал, когда вернется откомандированный на поимку Антонова отряд. Подписывая про запас мандаты, с которыми Рошке и Мезенцев ушли в лес, Евгений Витальевич украдкой поглядывал на товарищей. Не смотрят ли презрительно: как ты, дворянское Верикайте, смеешь марать офицерской рукой наши расстрельные мандаты? Пока лежал в беспамятстве командир, мог наговорить и об отце, выслужившем личную контрреволюцию, и о богатом детстве, и о том, что в Февраль Верикайте пошел с буржуазно-кадетских позиций, всего лишь ради умеренной демократии с Учредительным собранием. Был он даже причастен к борьбе с социал-демократией, пока судьба не занесла в стан красных. Со злостью на себя ковылял по селу Верикайте.
— Черт колченогий ходит, — шептала Федьке та же бабка.
Она только что обменяла на подшивку крынку молока. Торг состоялся под одобрение лампады: гарное масло чадило в красном углу. Федька Канюков заметил, что там, где Бог сплел иконную паутину, стоял небольшой образок. Проглянули строгие женские черты. Но это не был лик Богородицы. Мерещились в лице защечные страсти, которые могли прорваться в жизнь то ли в чувственной любви, то ли в револьверном дыму. Федька никогда не был религиозен. Он не понимал, что за иконка томилась рядом со Спасом.
— Это Богородица?
— Выше бери — Маруся!
— Какая Маруся?
— Мария Спиридонова, заступница тамбовского народа перед Богом.
Вспомнилась агитация на рассказовских фабриках, где социалисты-революционеры все время нахваливали одну женщину. Вроде это и была Спиридонова, которая при старом режиме застрелила крестьянского карателя. Да только карателей этих было пруд пруди, да и мстителей народных тоже хватало. Всех подробностей не упомнишь. Разве что из комиссарского рта слышал Канюков, что эсеры ныне злейшие враги революции.
— Так это эсерка, что ли? На иконе?
— Никакая не эферка, — обиделась старуха. — Богородица! Да ты, поди, и Бога не зришь. Весь в наших мужиков. Поставили в председательском доме Ленина портрет. Мужики заходили и по привычке в угол крестились. Им хоть адописную доску поставь, все равно поклоны бить будут!
Федька крепко задумался. Жены антоновцев кричали, царапались, плевались, пока их конвоировали в Сампурский концлагерь, и были совсем не похожи на молчаливый лик с иконы. Разве что одна молодуха, тоже молчаливая и слегка болезненная, привлекла внимание парня. Пойманная на Змеиных лугах девка тихо сидела в тюремной избе. На часах стоял Федька. Иногда парень заглядывал в окошко. В загаженной избе молчунья расчесывала пятерней несуществующие волосы.
— Имя, фамилия? — допрашивал Верикайте. — Гражданка, к вам обращаются. Имя, фамилия?
Пленница смотрела на краскома большими черными глазами.
— Вы эсерка? Связная Антонова?
Молчание.
— Входили в Трудовой союз? Какова была ваша роль? Почему вы не говорите?