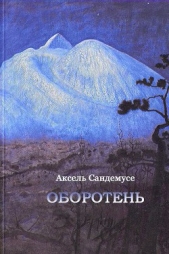Былое — это сон

Былое — это сон читать книгу онлайн
Роман современного норвежского писателя посвящен теме борьбы с фашизмом и предательством, с властью денег в буржуазном обществе.
Роман «Былое — это сон» был опубликован впервые в 1944 году в Швеции, куда Сандемусе вынужден был бежать из оккупированной фашистами Норвегии. На норвежском языке он появился только в 1946 году.
Роман представляет собой путевые и дневниковые записи героя — Джона Торсона, сделанные им в Норвегии и позже в его доме в Сан-Франциско. В качестве образца для своих записок Джон Торсон взял «Поэзию и правду» Гёте, считая, что подобная форма мемуаров, когда действительность перемежается с вымыслом, лучше всего позволит ему рассказать о своей жизни и объяснить ее. Эти записки — их можно было бы назвать и оправдательной речью — он адресует сыну, которого оставил в Норвегии и которого никогда не видал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я пригубил вино и рассеянно закурил сигару, повернувшись на стуле так, чтобы сидеть спиной к остальным. Пчелы, точно пули, влетали в цветущий куст, а потом торопливо вылетали оттуда — деловитые грузовые самолетики. Шмель по-стариковски брюзжал над маком, но, решив, что ему, впрочем, все равно, поплыл прочь за изгородь. Время стало вечностью.
Я надеялся, что никто меня не потревожит. Блаженно прислушиваясь к голосам, я молил бога, чтобы меня не трогали, мне надо было поразмыслить кое над чем. Я не успел обдумать одну мысль. Она витала в воздухе, собственно, даже еще и не став мыслью. Но скоро, скоро… Надо дать ей время оформиться. Я уже давно ее предчувствовал. И вот-вот сумею ухватить.
Как остро и глубоко ощущаешь счастье, когда возраст и положение позволяют тебе сидеть молча, повернувшись ко всем спиной.
Я вдруг обнаружил, что у меня по щекам текут слезы — я плакал. Сидел и плакал беззвучно, пуская в воздух колечки дыма. Я был совершенно спокоен, даже странно, неужели я предчувствовал, что заплачу, раз повернулся ко всем спиной? Однажды ночью двадцать лет назад я плакал в Канзас-Сити. В гостиничном номере. Была зимняя ночь, морозная, мертвая, зимняя ночь. Холодный ветер печально бубнил за окном. Я долго смотрел на стены, украшенные дурацкими картинами, а потом лег, укрылся с головой одеялом и заплакал.
Только бы никто сейчас не поднялся и не увидел моего лица, не обратился бы ко мне с вопросом. Но они обсуждали паркетные полы, это была важная проблема. Я курил, а из глаз все текли и текли слезы. Сигара стала соленой.
Я вдруг все понял про слезы. Они означают, что внутри у человека что-то превратилось в лед или, наоборот, оттаяло. Слезы сообщают об одном из этих явлений. Сами по себе они всего лишь соленые капли.
Тогда в Канзас-Сити… Я часто переезжал с места на место. Проходило какое-то время, и я обычно бросал работу с чувством, что это не здесь. На всем огромном континенте не было уголка, где для меня нашлось бы настоящее дело. История сгустилась: я приехал в Канзас-Сити, и там я плакал.
Да, все очень просто. Бездомность, тоска по родине, о которой я даже не подозревал, — вот что было замуровано во мне той ночью, когда я заливался горькими слезами в пустынном отеле Канзас-Сити. Покинул отель я уже американцем. Но сколько страшных лет пережил я до того!
Ледяной панцирь, которым я в ту ночь сковал свое сердце, сейчас растаял, и влага хлынула из моих глаз. Я испытывал чувство освобождения, от которого готов был запеть, если б не боялся привлечь к себе внимание. Я был благодарен Йенни, что она не обращается ко мне. Почему-то мне вспомнилось первое утро на сетере, вальдшнепы и глухарь с оперением, похожим на рассвет, аромат леса. Токование тетерева за окном.
Я поднял голову. В глубине сада стоял отец.
Меня это не поразило. Я медленно поднес ко рту сигару и глубоко затянулся. Слезы высохли, кожу стянуло. Птицы продолжали гомонить.
Отец не спеша приближался ко мне, — так идет крестьянин, вышедший проведать свое поле. Я был безгранично удивлен, но не открывшимся мне видением, а тем, что оно меня не поразило.
Губы мои слепили фразу: я приехал в страну живых.
Отец исчез, но все-таки он был тут, в саду, вместе со всеми.
Я уже не слышал голосов за спиной. Встал и пошел прочь. Только теперь я понял, что у меня что-то спрашивают, но я сделал вид, будто не слышал. Я медленно брел к дубовой роще и курил. Отойдя так, чтобы меня не было видно, я положил сигару на пень, вынул зеркальце, носовой платок и, как женщина, привел в порядок лицо.
Я стоял и думал. Зяблик рассыпал над моей головой звонкие трели. Я медленно провел рукой по щеке, погруженный в свои мысли.
Годы в Америке не прошли даром. Здесь, в саду, я боролся с проклятием всей эмиграции, но зато тут же мне открылось и то, что может понять только эмигрант. Есть кое-какие мелочи, все значение которых понятно только эмигранту.
Чего хотел от меня отец? Так он выглядел примерно полвека назад. Вряд ли в потусторонней жизни он бродил именно в таком виде. Про человека нельзя определенно сказать, какой он — ни про внешность, ни про духовный мир. Все суждения о человеке либо запоздалы, либо поспешны. Человек — это поток, река, изменяющаяся ежеминутно. Я вернусь к столу уже не таким, каким от него отошел. Изменятся и все сидящие там. Время, прошедшее с тех пор, как я встал из-за стола, кануло безвозвратно. То, что я увидел, был внутренний образ. Моя мысль приняла определенную форму и явилась мне в саду. Болтовня о призраках — бездушная чушь. Пусть ею тешатся невежды и сопливые мальчишки.
Я питаю слабость к страшным историям о необъяснимых явлениях, меня забавляет глупость писателя и его преданность двум-трем идейкам, которые с незапамятных времен без изменения кочуют из одной страшной истории в другую. Я читаю много, но за всю жизнь прочел лишь три-четыре истории, которые стоило бы запомнить. Сейчас одна из них вдруг взволновала меня, будто все это случилось со мной: какой-то человек бесследно пропадал шесть недель. Вернувшись, он сказал, что выходил в сад сорвать цветок, больше нигде не был. И тогда он узнал, что прошло шесть недель. В этом сюжете есть нечто древнее. Так поэты пытались представить себе вечность. Для того человека время не двигалось, а для всех остальных шло как всегда. Он выбился из их ритма и опоздал на шесть недель. Теперь ему предстояло нагнать шесть недель, которые все вокруг уже прожили. Что-то в этом пугало меня — то же самое могло случиться и со мной. Я читал и другие истории об исчезнувшем времени; была, например, история про ракету, которую должны были запустить на Луну или еще куда-то. Ее запустили вместе с пассажирами в 1925 году, и она упала на Землю в прошлое, в XIII век. Такие истории меня не тревожат. Меня нисколько не испугало бы, если б в одно прекрасное утро я проснулся на берегу Мёре в образе дружинника ожившего конунга Харальда Сурового. А вот то, что время может выскользнуть у меня из рук, вдруг миновать меня, этого я всегда втайне боялся. Несколько лет назад один случай как бы подтвердил мои опасения: я получил письмо двадцатидвухлетней давности. Может, оно провалялось за шкафом на захолустной почте, а потом там вдруг вымыли пол. Я смотрел на почтовые марки, давным-давно вышедшие из обращения, на адрес, — все походило на старый сон. Письмо оказалось от девушки. Я ее не помнил. Я долго глядел на письмо, на конверт, так глядят на поблекший цветок, найденный в старой книге, ты сам вложил цветок в книгу, но уже не помнишь об этом.
Я отвел ветки в сторону, чтобы посмотреть, сидят ли еще за столом. Вот сейчас меня бы очень испугало, если б там никого не оказалось.
Я пошел обратно. Старый Хартвиг дремал с трубкой во рту. Остальные, конечно, разговаривали обо мне. Уж слишком непринужденно они старались беседовать о красной смородине.
— В Норвегии смородина совсем не такая, как в Калифорнии, — неожиданно для самого себя сказал я.
Йенни поинтересовалась, какой там сорт, и я немного смутился. Какой сорт, ну, просто другой…
Не помню, чтобы я в Калифорнии вообще видел красную смородину. Я и не собирался про нее говорить, но ведь здесь все было как будто… как будто мое… Не все ли равно, какие ягоды растут в Калифорнии. Мне до них дела нет и никогда не было, мне наплевать, что там растет, красная смородина, крыжовник, да хоть бы вообще ничего. За пределами Норвегии все только покупается и продается.
— Не выношу калифорнийских ягод, — сказал я.
На столе появились кофе и пирожные. Вытащили из колодца принесенный мною коньяк. Йенни громко сокрушалась, что отклеилась этикетка, — такой дорогой коньяк…
Несколько раз она пыталась втянуть меня в разговор, но быстро сдалась. Я чувствовал ее растерянность, гости тайком переглядывались. Я вдруг оказался героем воображаемой драмы. А мне хотелось, как раньше, сидеть и слушать, не принимая участия в разговоре, но ведь настроение неуловимо, точно бабочка.
Старик подмигнул своей рюмке и торжественно ее пригубил.