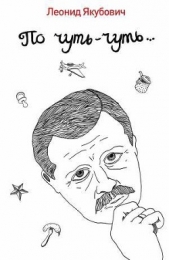Испанский смычок

Испанский смычок читать книгу онлайн
Андромеда Романо-Лакс, родившаяся в 1970 году в Чикаго, поначалу заявила о себе как журналистка, путешественница и серьезная виолончелистка-любительница. Ее писательская деятельность долго ограничивалась рассказами о путешествиях, очень увлекательными, но документальными. «Испанский смычок» — первый роман Андромеды Романо-Лакс, удостоившийся восторженных отзывов ведущих американских критиков и мгновенно разошедшийся по всему миру в переводах. Знаменитый журнал Library Journal назвал его литературным событием 2007 года.
«Испанский смычок» — это история мальчика из пыльного каталонского городка, получившего в наследство от рано умершего отца необычный дар — смычок для виолончели. Этот смычок и определит всю его дальнейшую судьбу. Барселона, Мадрид, Париж, Берлин — он объездит с концертами весь мир. Познает радость дружбы, безумие любви и горечь утрат; будет играть для королей и президентов; познакомится с Пабло Пикассо и одним из первых увидит знаменитую «Гернику». Будет верно служить Музыке и мучительно размышлять о несправедливости мира. И на протяжении всей жизни с ним будет его бесценный смычок.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я взвизгнул и вскочил на ноги:
— Это плохая идея! — Стараясь говорить спокойнее, я продолжил: — Ты права, мы действительно должны играть дуэтом. Лучше завтра. Мы сможем наверстать упущенное время. — Я устремился к двери, держа виолончель перед собой, стараясь прикрыть тот физический эффект, который произвели ее прикосновения.
— Это не потерянное время, Фелю, — сказала она.
Но я был уже за дверью.
Полуденные занятия с графом у него дома да неделя, проведенная наедине с его дочерью, были не единственным, что входило в программу моего обучения в Мадриде. Мои благодетели, те, что финансировали мое пребывание в столице, граф Гусман и королева-мать, считали, что придворный музыкант обязан погрузиться в то, что составляет славу Испании: искусство, архитектуру, историю, — и непременно знать, чем занимается действующее правительство. Мать, которую беспокоили недостатки моего «немузыкального» образования, осталась бы довольна.
Почти каждое утро после занятий на виолончели меня отправляли на всяческие экскурсии, осмотры и лекции. В кортесы — чтобы послушать парламентские дебаты, в национальную библиотеку — чтобы больше узнать о знаменитостях и важных событиях. Я побывал в мавзолее короля Альфонсо XII, отца нынешнего короля, который правил всего десять лет. В Арабском зале Музея армии я увидел меч Боабдила, последнего исламского правителя Гранады, сдавшего свою цитадель врагу в 1492 году. Здесь много чего можно было узнать, особенно о правителях и войнах. Думаю, Энрике Мадрид бы понравился. Что касается меня, я не уверен.
Барселона представлялась мне городом, устремленным в будущее. Мадрид же — пыльный, непривлекательный, совсем не похожий на столицу — напротив, казался воплощением истории. Женщины водворяли на головы невообразимые шиньоны, их одежда изобиловала кружевами, и нередко можно было видеть мужчин в старомодных пелеринах. В Мадриде не найти такого места, что своей откровенностью и легкостью сравнилось бы с барселонским бульваром Рамблас. Разумеется, здесь были общественные места, такие, например, как парк Ретиро, где можно взять напрокат лодку и плавать на ней по соседству с утками. Граф и его жена предостерегали меня, советуя держаться подальше от тех мест, где собираются представители низших классов. Когда мы проезжали в карете опасные, с их точки зрения, кварталы, они говорили: вот здесь однажды произошло убийство — молодых людей зарезали, а в этом месте никогда не встретишь женщин, а вот этот мост облюбовали самоубийцы — река под ним мелководная, и частенько в воде можно увидеть тела погибших.
В Барселоне, где взрывы и мертвые тела, прибивавшиеся к берегу, не такая уж редкость, жители не выглядели такими напуганными, как мадридцы. В столице, где чувствовалась королевская власть, люди понимали, что им есть что терять. Страх загнал людей в угол: вечеринки только закрытые, жизни учились не на улицах, а в музеях, драмы разыгрывались в частных гостиных. Даже в кафе, столь популярных в Мадриде, не кипела жизнь, как в Барселоне.
Больше всего я любил те дни, когда меня отправляли в Прадо, огромный художественный музей со столетней историей. Здесь, в одиночестве, я созерцал творения Веласкеса, Эль Греко и Гойи. Но и тут не обошлось без сюжетов, посвященных батальным сценам, например, была картина Гойи, рассказывающая о казни защитников Мадрида наполеоновскими войсками. Из музея я всегда торопился во дворец, стараясь сохранить в памяти увиденное, чтобы обсудить работы испанских мастеров со своим наставником.
— Как тебе король и королева? — допытывался он у меня за обедом в тот день, когда я впервые увидел самую знаменитую картину в Прадо — «Менины» Веласкеса. Перед глазами возник край холста, изображенный вдоль левой стороны картины: зрителю предлагалось взглянуть на сцену из дворцовой жизни как бы со стороны, чтобы понять — перед ним нечто более реальное, чем традиционно приукрашенный придворный портрет. В центре, в облаке из глубокой тени, светловолосая инфанта Маргарита в окружении двух подружек, двух карликов и собаки. Король и королева, которые позировали Веласкесу для этой картины, показаны только на затуманенном заднем плане, в отражении зеркала. Более акцентирован, нежели королевская чета, мужчина слева, созерцающий лицевую часть холста, невидимую зрителю.
— Фигуры короля и королевы совсем небольшие по размеру и расплывчатые.
— А Веласкес?
— А где он там?
— Тот самый художник. Мужчина слева, находящийся рядом с детьми.
— Он изобразил себя на картине? И крупнее, чем короля?
— Да, это так, — засмеялся граф. — И что ты об этом скажешь? Сам художник более заметный персонаж, чем его герои. А ты как считаешь, это правильно?
Еще наблюдая за Исабель и графиней, я понял, что граф любит, чтобы ему отвечали точно. Я всегда был упрямым, но сейчас начал учиться притворяться, в особенности когда речь шла о чем угодно, только не о виолончели.
— Не думаю, что это правильно. Живописец, музыкант, любой художник не должен выпячивать себя в своих работах, от этого веет излишней самоуверенностью. Не следует нарушать целостность того, что рисуешь или играешь. Артист всего-навсего слуга.
Граф кивнул, но ничего не сказал в ответ на мою тираду.
— В любом случае, я уверен, король был рассержен.
— Какой король?
— Тот, что на картине.
— И как же его зовут?
— Это не Карлос. Филипп… Третий?
— Почти угадал. Филипп Четвертый. Но это не обязательно помнить. А вот имя Веласкеса — обязательно.
— Конечно. Он же знаменитый.
— Более знаменитый, чем король? Только потому, что нарисовал себя на этой картине?
— Нет. Он известен своими работами, в разных местах и многим людям. Не то что король или королева.
— И я так думаю, — наконец промолвил граф. — Было время, когда искусство служило только монархам или церкви: серьезную музыку играли для них, картины создавались о них. Даже Веласкесу было трудно представить иное. Но эта эпоха прошла. Я могу вообразить себе время, когда короля не будет совсем, а живописец, или писатель, или виолончелист, — здесь он подмигнул мне, — станут такими же всесильными, как короли.
Это прозвучало так, будто граф вот-вот произнесет признание в приверженности к республиканцам или антимонархистам. Я оглядел комнату, дабы убедиться, не подслушивает ли кто.
— Но вы же утверждали, будто музыкант не может быть независимым.
Граф засмеялся:
— Правда. Именно это я и имел в виду. Даже тот, у кого есть власть, не свободен, иногда даже больше, чем кто-либо другой. Всегда, когда мы нуждаемся в поддержке и признании, мы зависимы. В любом случае, — продолжал он, — художнику важно определить свое отношение к тому, что он делает, сколько личного он должен вложить в свое детище, пытается ли Он оказать влияние на тот мир, который изображает, насколько вольно его интерпретирует. И это не так просто. Думаю, что ты, Фелю, неплохо чувствуешь прошлое. Ты классик, но с современными манерами.
Мне понравилось, как граф мог все соотнести с музыкой и при этом дал мне почувствовать, что испанские шедевры содержат личное послание мне. Я наслаждался его словами и предпочел, чтобы наш разговор об искусстве закончился на этом самом месте, до того, как я окончательно запутаюсь. Но тут он спросил меня еще о двух портретах Махи, герцогини Альбы.
В музее я узнал, что Гойя рисовал герцогиню дважды, в одной и той же откровенной позе, провокационно откинувшейся — на одной картине одетой, на другой — обнаженной. Когда граф задал мне этот вопрос, мне не составило труда вспомнить последнюю картину, особенно смущавшие меня детали: свечение белоснежного тела и маленькие пальчики на ногах, подобная апельсину округлость ее груди. Я описывал картину в течение нескольких минут, и тут до меня дошло, что граф не просто устроил мне урок. Он использовал меня в качестве своих глаз, как замену того, что потерял сам. Я не был против, но заметил, что во мне крепнет необходимость, так сказать, соответствовать, при моих придворных обязанностях это становилось для меня все более привычным.