Дочь
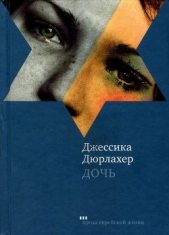
Дочь читать книгу онлайн
Герои романа известной голландской писательницы Джессики Дюрлахер — дети тех, кто пережил Катастрофу, чудом спасся от нацистов, и их поступки во многом определяются прошлым родителей. Молодые люди, Макс и Сабина, встречаются в музее Анны Франк и влюбляются друг в друга, но вскоре Сабина неожиданно исчезает. Только через пятнадцать лет Макс снова встречает ее в компании со знаменитым голливудским продюсером. Она не объясняет, почему покинула Макса, но тот понимает, что за ее поведением кроется какая-то тайна, и начинает собственное расследование…
Роман «Дочь» пользуется огромным успехом на родине автора, он был издан там двенадцать раз тиражом более 140 тысяч экземпляров и переведен на многие языки мира.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Должно быть, это как-то связано с расстояниями. Все здесь находилось чудовищно далеко друг от друга, и отсутствие центра, сердца города заставляло видеть его в другой перспективе. После первой недели я понял, что уже не задумываюсь о том, правильно ли я въезжаю в этот так называемый город. Я растворился в нем. Я больше не был гостем, я здесь жил, хотя и временно. Не то чтобы это для меня много значило, но поражало.
Почему-то я стал чаще вспоминать Юдит. Я пожалел, что папа никогда не брал меня с собой в Чикаго. И впервые задумался о том, как изменилась бы моя жизнь, если бы он эмигрировал в Америку.
Появилось ощущение полета. Казалось, я парил над Лос-Анджелесом. Чувство легкой опасности, энергия и размеры города ассоциировались у меня с понятием «мир» в гораздо большей степени, чем путаница тесных улочек Амстердама. С другой стороны, Лос-Анджелес был, конечно, исключением из правил, но самым большим и далеко опередившим все исключения, какие мне попадались. Все здесь было юным и новым; здесь не существовало ни прошлого, ни его уроков.
Я ушел от прошлого Европы, прошлого моих родителей дальше, чем когда-либо. И в то же время оно было рядом, потому что здесь оно существовало лишь в моих воспоминаниях, в моем воображении.
У меня вошло в привычку ездить по городу наугад. Очень скоро я узнал, как проехать от моря (Санта-Моника, Пасифик-Палисадес) к Западному Голливуду, Беверли-Хиллс, Голливуд-Хиллс и к другим районам, небрежно разбросанным меж колоссальных скоростных дорог и бульваров Лос-Анджелеса. В первую неделю мне казалось настоящим приключением выехать на Десятое шоссе, грязно-серую десятирядную скоростную бетонку, напоминавшую сточную канаву, по которой на бешеной скорости неслись потоки машин.
Шум от машин в Лос-Анджелесе, несмотря на громадное их количество, мешал меньше, чем в Европе, — может быть, потому, что пустырей было здесь гораздо больше, небо — выше, а горы — ближе. Это наводило на мысль, что, если перестаешь замечать даже шум миллионов машин, кто разглядит здесь тех, что пытаются пробиться в знаменитости?
Все относительно в ярком свете Лос-Анджелеса, философствовал я; все стирается и обезличивается в этом городе, которому каждый пытается сопротивляться изо всех сил.
Со скоростного шоссе сворачиваешь на одну из главных улиц: Робертсон, Фэйрфакс, Лабри. Их уродство завораживает, потому что едешь в сторону гор, к тому, что издали кажется городом. Иногда мимо проносятся супермаркеты, закусочные, мебельные магазины, дешевые рестораны, бары, но ты остановишься только в том месте, куда едешь. Специальными парковками почти никто не пользуется.
В Лос-Анджелесе я впервые понял: можно считать, что ты в городе, только когда увидишь прохожих. Город начинается там, где появляются пешеходы. В Лос-Анджелесе их почти что нет. Только в Беверли-Хиллс, там, где дорогие магазины, я нашел несколько улиц, вроде Родео-драйв или Камден-драйв, по которым ходили люди — вряд ли им подошло бы слово «прогуливались», ибо обувь на них была слишком дорогой, да и одежду такую не каждый день носят. На бульваре Сансет и Стрипе могут попасться люди, перемещающиеся своим ходом из магазина в соседний ресторан.
В других же местах видишь одни автомобили. Кабриолетами почти никто не пользуется. Но зато новейшие модели «ягуаров», «порше» и «феррари» соседствуют с антикварными «роллс-ройсами» и едва движущимися, ржавыми доходягами. Удивительно расслабленно сидели в машинах люди, с младенчества привыкшие к передвижению на собственных колесах. Никто не озирался по сторонам, как я. А я не знал, куда раньше глядеть: слева — женщины, словно сошедшие с телеэкрана, ухоженные блондинки с идеальной кожей и шелковистыми волосами, заправленными под сдвинутые на лоб солнечные очки; справа — оборванные мексиканцы, растерявшие все зубы, кроме пары клыков, выставляли локти в боковое окно.
Я очень быстро пристрастился к автомобильным прогулкам: слушал классическую музыку и глядел издали на дымку смога над деловой частью города и горы на горизонте. Потрясающее зрелище.
Я воображал, что все дело в классической музыке, которая совершенно не гармонировала с местностью, и успокаивался. Я сознавал, что новые впечатления вызовут новую радость, боль и наказание. Любое из этих последних сшибло бы меня с ног, будь я ребенком.
Я помню, как папа взял меня однажды с собой на футбол. «Аякс» играл против «Файнорда». Мне было тогда около пяти. Он крепко, до боли сжимал мою руку.
— Смотри, Максик, — говорил он.
Голос его звучал неясно, он был возбужден, как мальчишка, и я чувствовал, что он боится, боится толпы, и того, что он маленький, и чувства ответственности за меня, вызванного любовью.
— С ума сойти, все эти мишугоим [40] пришли посмотреть на то, как юноши будут гонять мячик. Держись за меня крепче, Максик, — в том, что ты увидишь, нет ничего плохого.
Я ощущал себя маленьким мальчиком (Максиком), но мне не было страшно, и при первом голе я вскочил вместе с папой, радостно крича. Впервые мой страх полностью совпал с чьим-то еще и потому переродился в высшую форму радости. И тогда я понял, что одна из важнейших целей в жизни — найти красоту в страхе. Я понял это благодаря тому, что был не один, но находился под защитой отца, что и стало существенной частью этой радости — не меньшей, чем сам страх. Наши страхи слились, и наше возбуждение совпало в унисон, так же как классическая музыка идеально противопоставляет себя чудовищно прекрасному уродству и пустоте Лос-Анджелеса.
В машине, затерянный среди отталкивающей наготы кирпича и бетона, в городе, который вовсе не был городом, с сердцем, полным раздумий о загадках Сабины, и с плачущим и смеющимся кларнетом Моцарта в качестве аккомпанемента я, впервые за много лет, снова стал самим собой.
Хотя и сам не мог бы сказать кем.
Пятилетним ребенком?
Сабина много раз таскала меня в Санта-Монику, одно из немногих мест в Лос-Анджелесе, где можно было прогуляться вдоль моря, послушать уличных музыкантов, заглянуть в книжный магазин, взять напрокат фильм. Променад привлекал туристов, особенно европейцев; это место, единственное в Лос-Анджелесе, напоминало им нормальный город.
— Почему ты поселилась здесь? — спросил я Сабину. — В этом ни на что не похожем городе, где нормально выглядит, кажется, одна улица?
— Не знаю. Может быть, как раз поэтому. И этот свет. В Европе темнее, а здесь всегда каникулы. Здесь совсем нет времен года. Погода почти не меняется — всегда ясно и солнечно. Но я не собиралась здесь остаться. Я просто забыла уехать. Тут время совсем не движется. Я не всегда отдаю себе отчет, что так долго здесь нахожусь.
— Почему так приятно не замечать времени?
— Потому что нет примера для подражания, нет истории. Здесь простор и дикость, здесь можно исчезнуть. И время меня не тревожит.
Проведя неделю в Лос-Анджелесе, я это понял. Голландия превратилась для меня в маленькое темное пятнышко во Вселенной. А голоса тех, кто остался на родине, приобрели смешной, как у героев мультфильмов, акцент.
Пространство обернулось временем, время — пространством.
К тридцатому декабря у меня пропало желание торопиться. В сознании стали неясно вырисовываться новые возможности. Можно сказать, постепенно, но отчетливо развивалось неприятие того мира, который ждал меня дома; никогда он не выглядел таким абстрактным, как теперь. Моя темная, бессмысленная, мертвая жизнь. Только родители маячили в сумраке, одинокие хрупкие куклы, тщетно пытающиеся привлечь мое внимание.
А что, если остаться здесь? Forever? [41] Когда я впервые сказал об этом Сабине, она мне не поверила. Мы обсуждали это минут пять. Она засмеялась, чуть-чуть сердито — или испуганно, словно мой отказ понравился бы ей больше, чем мое согласие остаться.
Но разговор пришлось прервать, потому что позвонил Сэм.


























