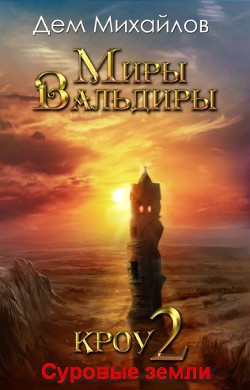Тяжесть

Тяжесть читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мне стало немного противно и очень жаль ее.
— Наталья Платоновна, я вас понимаю. Каюсь, не подумал…
Она обрадовалась:
— Да, вижу, ты поможешь. Вижу, ты взрослый.
Я серьезно ответил:
— Наверное… Только времени у меня нет зайти к вам, отпуск кончается. — Во мне вновь проснулась желчь. — Нужно же кому-то из взрослых защищать неприкосновенные границы нашей необъятной родины. Я ему письмо напишу. Вы подождите:
"Друг Серега, верная калоша!
Сей доброе и вечное, сей, да о ветре не забывай, о сорняках помни, и пусть равнодушие земли сидит в тебе памятью о человеке, который в тебе живет и которого могут сломать ни за грош, ни за копейку, а потому что — положено. Можешь послать к чёрту своего друга Святослава Мальцева"
Простились мы с Натальей Платоновной с добротой на устах, с безразличием в сердце. Ненужная вещь — вероятно, подумали оба друг о друге. Только много позже узнал, что стала меня проклинать в своих ночах, желаниях мать Сереги, ибо через несколько месяцев исключили ее сына из института без права поступления, и стал ее сын ни то ни сё. Правда, он считал себя человеком. Может, и будет считать, если не сломают… согнуть будет уже невозможно.
Убегали, сквозняком прошмыгивали сквозь желание задержать время последние дни. Съездил, чтобы узнать свое детство, в Ярославль, где уезжающая мать оставила мне квартиру. Ничего не увидел, ничего не узнал, разве что по углам квартиры память собирала с горечью крохи материнской ласки. Встретил мимопроходящих женщин, с которыми обнимался до вспухших губ много тысяч дней тому назад. Двух привел к себе. Вспоминались кусты, деревья, страх перед сладкими от незнания руками, шарящими, делающими больно. Наутро осталась кислота, оскоми-на. Показались мне девушки детства половозрелыми насекомыми.
Вновь отъехал в Москву. Ел, отсыпался, слушал визгливую брань Нины, костящей на все лады род Мальцевых. Вечером шатался по городу. Мечтал ли о чем-то, покидая Москву? Может быть, но и непознанная мечта стала ненужной. Отсырело всё здесь, а кто мечтает о сырых валенках?
19
К обмундированию привык быстро, скованная воротником кителя шея стала менее подвиж-ной уже в самолете. Теперь я не гнался за солнцем, а убегал от него. Я сидел в кресле чужой всему и всем; бубнили, засоряя уши, моторы за иллюминаторами. Пусто было повсюду. Капитан, когда я снимался с учета в военкомате, поглядев на отпускной лист, сказал:
— На Дальний? Молодец. Служи.
Сволочь. Всё же не совсем пусто, если есть место для злобы. Размяк на гражданке. Вредно влияет отпуск на психологию солдата; правы старые офицеры. И вдруг вспомнилось: китайцы. Никто не спросил о них… Кому дело, раз в газетах нет. Оно и правда, к чему? Последняя зима позади, через несколько дней последняя весна, там — лето, а там и дембель щелкнет по носу… а там… а там, гляди, может, и отпустят во Францию, может, добьюсь, чтобы отпустили. Мать ведь шурует вовсю.
После розовеньких силуэтов парижских улиц, пребывающих где-то за чертой осязаемого мира, тупой реальностью влезли в глаза огоньки владивостокского аэропорта. Было холодно, дул дальневосточный ветер, по-старому, будто и не было отпуска, выматывая душу. Верхняя пуговица шинели была расстегнута. В зале ожидания, через который проходил, патруль покосился на эту пуговицу, на разбухший вещмешок: значит, подарки везет в часть. Если угрюмая морда, то больно ему не сделаешь, а если ко всему расстегнутая шинель, то и брать его нечего, бессмысленно, потому что губа ему, послеотпускнику, не страшна; для него губа, часть — одни ворота — возвращение… пусть и топает…
Кончался короткий бледный субботний вечер, ночь бросалась грудью на небо. До Уссурийс-ка меня дотащил доходяга-автобус. После Европы город казался уютной деревушкой: деревянные домики отгородились вдумчивыми сугробами, кое-где ставни с узорами и повсюду — не черный снег. Казармы, которых было больше, чем домиков, скрывались за высокими стенами, доступны-ми только опытным самовольщикам. Было мирно и мило. До Покровки добрался на попутке. Здесь, перекрикивая собак, рявкали танковые моторы, шныряли грузовики, ходили патрули. Первый же встречный патруль, пустив светом в лицо, облапил меня со всех сторон:
— Вернулся! Здорово! Вернулся-таки, а мы думали, что уж не вернешься, говорили, что, мол, уехал во Францию эту!
Я освободился от трясущих меня рук:
— Кто болтал об этом?
— Да все. Да ты не бойся, ведь этому никто не поверил.
— И правильно сделали, что не поверили. Я, ребята, болгарские сигареты привез, небось, давненько не видали.
Ребята были из разведроты. Кто-то капал, кто-то им мозги крутил. Незачем спрашивать — зачем, и незачем спрашивать — кто. Они не знают, я знаю. Но не взять меня Рубинчику.
Вновь началась борьба за существование. Или она не прекращалась… не прекратится. В казарме готовились к отбою. Ребята встретили меня радостно, с искренней простотой. Мусамбе-гов, Быблев, Нефедов и другие. Кырыгл стоял в стороне. Я подошел, положил руку на плечо, спросил:
— Все злобишься? Не понял, почему получил тогда? Скажи честно. Через самолюбие скажи.
Он по-детски удивленно взглянул на меня. Помедлив, ответил:
— Понял.
— Если понял, то улыбнись.
Он улыбнулся так, как ум приказать не сумеет. Я вытащил из вещмешка губную гармошку:
— На. Твою же забрали ребята еще в карантине. Бери и становись в коридор. Отмечать мой приезд будем. Появится звезда, гаркнешь. Я тебе смену пришлю, Мусамбегова.
Кинув ребятам вещмешок, пошел к койке Свежнева. Он меня ждал.
— Что, задарил, сладкую пилюлю подсунул? Это ты умеешь.
Мне стало обидно, грусть сделала веки тяжелыми. Заставил себя легко махнуть рукой, сказал, выдержав легкомысленный тон, первые несколько слов:
— Ладно тебе лаяться. Ведь парню приятно сделал, и заодно из врага друга изготовил… Послушай, тебя на мякине не проведешь, а ведь и тебе кое-что привез. Возьми и прости, если в чем виноват.
Том Пастернака от Москвы грелся под моей шинелью у легкого. Коля принял его вытянуты-ми руками с широко раскрытыми глазами. Голос его жалобно дрогнул:
— Спа-асибо. Таких, как этот том, по всему Союзу только двадцать тысяч разбросано. Спасибо, Святослав. Как ты достал?
— Как? А так, что хочешь жить — умей вертеться.
— Сколько за него дал?
Не сказал, что украл его у Алексея. Сказал:
— Тридцать пять тех самых рубликов.
Свежнев поверил в меня. Солдат в отпуску, который вместо того, чтобы пропить тридцать пять рублей, покупает другу книгу, о которой тот мечтал, настоящий друг, и другого тут быть не может. Да и хотелось ему поверить в меня.
По обычаю устроив стол из чемодана, положенного на койку прибывшего, все подняли кружки:
— За всё хорошее.
Ребята были веселы от моего приезда, разогнавшего бытовщину вечера. После второй бутылки Свежнев стал с нетерпением заглядывать себе подмышку, куда заключил Пастернака. Я кивнул головой:
— Валяй. Мы и без тебя допьем.
Рассказав ребятам о гражданке, о бабах, спросил Нефедова:
— А что за бардак в селе? Шуруют туды-сюды. Как от скуки.
— Да вот понимаешь, катавасия. Желтые, как ты уехал, резать-то в общем перестали, во всей дивизии не было ни одного случая: ни у фанеры, ни у минометчиков. Только ракетчики сразу поднялись и отбыли, а куда — так это Гречко знает. А с тех пор, если я хорошо понимаю, они скопом стали у границы бродить. То у нас тревога, то у соседей. Пару противотанковых орудий к нам из дивизии пригнали. У многих муть на душе, вот на днях даже Быблев попробовал цветоч-ного одеколона, кренделя выписывал по части, еле уберег его от дежурного. Ты как уехал, нам в отделенные назначили сержанта из хозвзвода Петрищева, есть такой. Так он, не поверишь, фашистом оказался. Только не немецким, а нашим, русским. Говорил, что Ницше должен был родиться в России, что мы — лучший народ в мире. Дурак, да и только. Слушай, Святослав, а ты об этом Ницше слышал? Кто он такой?