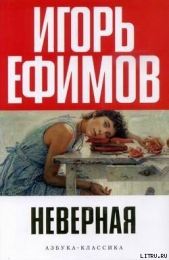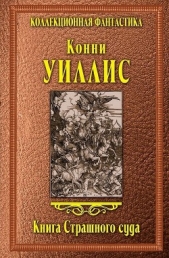Архивы Страшного суда

Архивы Страшного суда читать книгу онлайн
Игорь Ефимов — русский писатель, с 1978 года живущий в США. Прозаик, философ, историк, публицист, он автор множества совершенно разных по жанру книг, получивших признание в России и Америке.
Ефимов интеллектуал, читать которого увлекательно и легко. Иосиф Бродский сказал, что он «продолжает великую традицию русских писателей-философов», и при этом его книги полны жизни, страсти и почти кинематографического действия. Признанные мастера криминального жанра позавидуют детективной интриге романов Ефимова «Суд да дело», «Седьмая жена» и особенно «Архивы Страшного суда». Увлекательность Сидни Шелдона, убедительность Фредерика Форсайта и изобретательность Роберта Ладлема соединились здесь с подлинным мастерством настоящего русского писателя. Нет сомнений, «Архивы Страшного суда» должны по праву войти в число самых блестящих мировых бестселлеров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сентябрь, первый год до озарения, Москва
На этот раз лучшие грибы пробрались в верхние слои корзин не под напором тщеславия (сесть на пенек, не доходя до станции, и пересортировать красиво), а просто потому, что уже после трех часов блужданий по мытищинским рощам стало ясно, что класть больше некуда, что пора ехать домой и что за сыроежками, лисичками, горькушками и прочей второсортной мелкотой нагибаться было бы глупо — чистое плюшкинство. Но когда вернулись, когда высыпали добычу на кухонный стол, выяснилось, что, как водится, вначале отбор был не таким строгим, что от жадности хватали что придется и в нижних слоях, особенно в корзинке жены, несъедобного, спрессовавшегося барахла — предостаточно. Павлику-то казалось, что шутит он по этому поводу вполне добродушно и белые разрезы шляпок с узором червоточин подносит ей к очкам самым дружески непринужденным образом; но она только поджимала губы и на пятом забракованном грибе не выдержала — швырнула нож и вышла из кухни.
Он вздохнул, погладил упругую оранжевую замшу подосиновика, поглядел в окно. Неделю дома — и уже хочется обратно в поле. Но следующая экспедиция не раньше апреля, значит, надо еще семь месяцев тянуть себя через домашние неурядицы, через перепалки с родителями, дочкины простуды, обиды жены, через стояние в очередях за гнилой картошкой или несчастным рулоном туалетной бумаги, через изморную борьбу с распадом жилья (валится штукатурка в ванной, вылетают планки паркета, трескаются оконные рамы, ржавчина проедает дверные петли), через долгие блуждания-ожидания в прокуренных коридорах Управления (сдача отчета, свары с бухгалтером, неизбежное привирание с зарплатой рабочих, выработкой, цифрами плана), через поиски — сколько лет уже! — какого-то фантастического (Гофман! Кафка!) размена квартиры, который устроил бы отца, мать, жену, жилконтору, районные власти, городские власти, Уголовный кодекс, кошку Фатиму, привыкшую к своему коридору, кактусы и агавы, могущие пострадать от другого микроклимата.
И что могло скрасить эту унылую череду? Тотализатор? Скачки? Но полевой сезон был таким неудачным, дожди держали их в палатках неделями, из летнего заработка едва ли удалось бы вырезать сотни две — на это не разыграешься. Поездки с приятелями на рыбалку? Дергать скорую на обмороки плотву и замороченных окушков с палец длиной? Это после судака, жереха, тайменя? Сандуновские бани? Тоже стали рутиной. От одних разговоров про хоккей хочется иногда обдать кипятком всю компанию.
Вырваться снова в Таллин, в командировку?
Но нет — с тем приключением было покончено. Он писал ей несколько раз, письма были очень хорошие, он знал это, даже гордился слегка, и не откликнуться на них ни строчкой могла только какая-нибудь вертихвостка-динамистка — пустая душа. Да-да, любительница риска, дешевых эффектов, игр в опасность и загадочность. В Таллин тоже ехать не хотелось.
Дохлебывая компот из стакана, вошел отец. Новые шлепанцы его прилипали к потным ступням и затем, отклеиваясь, щелкали по полу при каждом шаге. Он оглядел грибные россыпи на столе, фыркнул:
— В наше время, кроме белых, мы и в руки ничего не брали… А это что? Неужто и за такой фитюлькой нагибался? Живот-то куда убирал при этом?… Чайник ты ставил? Вскипел? Значит, ударим теперь по чайку. А сколько раз я просил, чтобы ручку не роняли, чтобы оставляли торчком. Ведь раскаляется — не ухватить.
Рядом с газовой плитой висели специальные фетровые хваталки с пестрой вышивкой, но отец к «этим сальным тряпкам» не притрагивался, предпочитал пускать в дело подол рубашки. Однажды был случай — он вышел голый по пояс, застыл в растерянности перед вскипевшим чайником, потом ушел к себе, вернулся в накинутом пиджаке и с торжествующим видом обернул горячую ручку приспущенным рукавом. Использованную заварку он хранил в стеклянных банках («А вот вскочит чирей — тогда попросите!») до тех пор, пока пушистые клумбы плесени не покрывали ее целиком.
«Почему я, именно я, должен быть самым терпимым, понимающим, снисходительным? — Павлик осторожно стягивал с масленка нежный коричневый скальп с торчащей там и сям лесной трухой. — Почему я должен помнить, кто с кем не разговаривает эту неделю, к кому мы обещали пойти на свадьбу дочери (невесту видели один раз в жизни — еще с соской во рту), почему именно в мои обязанности входит отсиживать на родительских собраниях в школе, почему все перегоревшие лампы, оборвавшиеся вешалки, испорченные кофемолки, залипшие утюги месяцами могут дожидаться моего возвращения? Почему я должен ходить на цыпочках, уступать очередь в душ, выключать телевизор в одиннадцать? Почему в сорок лет я все еще Павлик — не Павел, не Никифорович, даже не Паша?»
В коридоре зазвонил телефон.
— Да, — сказала жена. — А кто его просит?… Ну если вы знакомы по службе, то должны знать его отчество. Ах не по службе?!. По ипподрому?… Но что же такого важного и срочного может происходить сейчас на ипподроме? Лошади искусали жокеев? Зрители помчались наперегонки? Кто-нибудь выиграл миллион?
Видимо, с терпимостью на его лице не все было ладно, когда он выскочил в коридор, — она поспешно протянула трубку, передала ее на вытянутой руке, как тикающую бомбу, и сразу скользнула к себе.
— Да?
— Павлик?
— Да-да, это я…
— Извини, что так вторглась… Ничего? Корабль семейной жизни дал легкий крен?…
— Откуда ты звонишь?
— Я в Москве… Конференция анестезиологов… Только сегодня приехала.
— Я тоже… То есть всего неделю как вернулся…
— Спасибо тебе за письма. Два пришли так вовремя — как раз в те дни, когда я совсем кончалась…
— Где ты сейчас?
— Я очень хотела тебя повидать, но тут всякие сложности…
— Я тоже очень. Где ты?
— Я, кажется, опять с этими… со всезнайками… Ну ты понимаешь… Никак не думала, что и в Москве тоже. Расслабилась, стала беспечной, а они тут как тут…
— У меня как раз сегодня вечер свободный…
— Хорошо, что я тебя застала напоследок… Может, потом и не удастся. Но ты не думай, не бойся — я из автомата звоню.
— Ты вот что… Ты успокойся… Возьми себя в руки… Может быть, это только фантазии?
— Я ничего… Я нормально…
— По голосу слышу, как «нормально». Не бойся, слышишь? Только скажи, где ты, и ничего не бойся.
— Ты же знаешь, у меня есть опыт, но тут как-то все не так оборачивается.
— Все будет нормально. У тебя опыт — ого-го! Ты профессор исчезательных наук. Справлялась ведь раньше, не первый раз. Только скажи, где ты сейчас?
— Ну хорошо…
— Да?
— Глупо мы это делаем…
— Давай-давай.
— Ты приезжай в гостиницу «Киевская»… Не «Украина» — это огромная, шикарная, — а та здесь же, но гораздо меньше…
— Учи-учи урожденного москвича.
— И поднимись в ресторан.
— Так.
— Ну закажи себе чего-нибудь. Если можно будет, я к тебе подойду.
— Договорились.
— Только сам меня не ищи. И головой не верти. Если я подойду, то буду холодная-холодная… Как незнакомая… Спрошу, свободно ли место…
— Будет свободно. Я доберусь через полчаса. Самое большее — через сорок минут. Держись.
Скинуть грибное затрапезье — полминуты.
Рубашка в розовую полоску, к ней брюки светло-коричневые (говорят, смотрится), сандалии тоже в цвет — еще две минуты.
Брился с утра — сойдет.
Заметался, пытаясь сообразить, будет ли сегодня играть какую-нибудь роль, что трусы длинные, немодные, — со вздохом решил, что не будет, махнул рукой, но минуту на колебания потерял.
Брызнуть одеколоном, сунуть кошелек в карман, расческу — мгновение.
Еще минута: прокричать отцу, но так, чтобы жена за дверью слышала, что позвонила знакомая кассирша с ипподрома (придумывалось тут же, легко), которая достала «размеченную» программку для завтрашних скачек («размеченная для своих, на каких лошадей ставить, — понимать пора такие вещи!»), что едет, чтобы срочно заполучить, вернется нескоро.
И вот уже лифт, ступени, дверь на улицу, вот инвалид Кеша тянет в гастроном ящик с пустыми бутылками (нет, издалека видно, не набрал еще на маленькую), вот и троллейбус подкатывает, как по заказу, и втиснуться в него удается, хотя времени — самый пик.