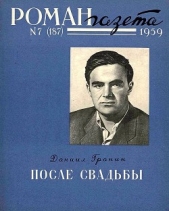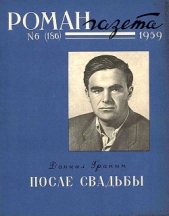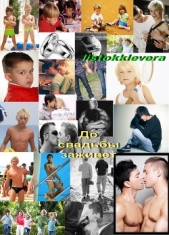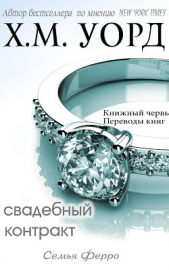Своя ноша

Своя ноша читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Куб кромсал бумагу, а я думал: вот и закончилась какая-то полоса моей жизни. Теперь начинается новая. И в ней, наверное, будет еще труднее, ибо отныне я должен мерить себя другими мерками.
Глава Двенадцатая
Конечно, я не ждал Людмилиного письма, но, когда оно пришло и я прочитал его, понял — все-таки ждал.
«Виктор Степанович!
Умер наш папа.
Две недели я ничего не видела вокруг себя — ни людей, которые беспрерывно толкались в нашем доме, ни вещей, ни солнца. Сегодня будто впервые открыла глаза после долгой болезни и ничего не узнаю — или мир так переменился за это время, или я сама.
Высокие тополя против наших окон уже облетели, сквозят. На железных крышах, в желобах, лежат ворохи красных листьев. Осень. А папу мы похоронили почти летом. Был душный день. Шло много народу — вся улица запружена: преподаватели, студенты, геологи. Приехали даже из других городов. Ах, какая духота стояла. Папа лежал худой, с острыми скулами. На лбу, в морщинках, блестели капельки пота. Я перепугалась, только потом поняла: это не пот, а наши слезы — мои, мамины, Руфкины и Светкины.
Зачем я вам пишу?
Мне кажется, вы плохо думаете о папе. Я не хочу, чтобы вы о нем плохо думали. Папа хороший.
Вы знаете, что мы с Руфиной ему не родные, одна Светка — родная. Но другого отца и не надо.
Он был всегда сдержан с нами. Он как бы стеснялся набиваться нам в отцы. Но я-то знала: отправили меня в туристическую поездку по Карпатам — он придумал, а мама лишь мне передала; купили Руфке кинокамеру — его подарок, а мама только сходила в магазин. Все эти игрушки, тряпки, фрукты, сласти в наши именины и будние дни — его, его, потому что, когда он ненадолго уезжал в командировку, мы ровным счетом ничего не видели, поесть порой даже нечего было. Мама-то знаете какая у нас беззаботная!
Ох, как-то теперь жить будем! Прошло две недели, всего две недели, а уже чувствуется: дом приходит в упадок. Нет, еще ничего не продали, не растеряли, но вот уже Светка вытащила с полки пятитомник Есенина: идет на день рождения к подруге, а подарок не на что купить. И так потихоньку все потечет меж пальцев. Скоро комнату будем сдавать внаем. Я, конечно, шучу, но уже приходил один человек, великовозрастный модник, в короткополом пальто, с тросточкой, представился артистом театра музкомедии. Ему, мол, сказали: большая квартира, очень удобная, с газом, телефоном и т. д. Мама с такой яростью набросилась на артиста, что мы с сестричками перепугались, как бы не ударила его. «Вон, вон!» — почти в истерике кричала она, а когда артист убежал, разревелась: «В другой раз кто придет, надо будет пускать; никуда не денешься».
Вот за эту сдержанность и даже застенчивость я и любила отца. И еще за то, что он знал все на свете. Я уже не говорю там о камнях разных, но и в лес с ним придешь — всякую птичку, которая выпорхнет из-под ног, назовет: славка, зяблик, пеночка; всякий цветок укажет: саранка, марьин корень, курослеп, незабудки, ирисы, кукушкины слезы — да мало ли их я от него знаю!
Помню над моей головой сорвалась с куста кукушка. Я обругала ее: «Фу, противная!» — «За что ты ее так?»— спросил отец. «А за то, что мать плохая, подбрасывает свои яички в чужие гнезда, ленится сама высиживать». — «Не плохая она мать и не ленится, и то, что кладет яйца в чужие гнезда, не вина ее, а беда. У кукушки против других птиц растянут период кладки, и если бы она даже вздумала сама высиживать птенцов, у нее ничего бы не получилось: всех бы погубила», — отец говорил с печальной, все понимающей улыбкой, и мне казалось, что он в ту минуту думал о своей судьбе, сравнивал себя с кукушкой. Но у него-то все было наоборот: не он подбрасывал в гнезда своих птенцов, а сам всю жизнь растил чужих!
Передо мной сейчас стоят в потрескавшейся деревянной вазе три палочки рогоза с коричневыми продолговатыми шишечками-пыжами на концах. И хорошо, что в вазе нельзя держать воды: шишечки бы распушились, облезли белым, а так стоят темные, меховые, нежные, точно такие же, какими мы с отцом срезали их два месяца назад на болоте. Только стебли высохли, пожелтели, сплющились, свились, точно проволока, — ну да не на стебли любоваться… Всю жизнь, сколько помню, этот рогоз был для меня камышом. Камыш, да и только. Иного камыша и не представляла. Отец объяснил: камыш — совершенно другое: и цветет метелкой, и стебель дудчатый, и листья жесткие, шумят — «шумел камыш…»
Многое я вам уже написала, а все никак не могу решиться приступить к главному.
За два дня до смерти отец сказал — он уже совсем почти не мог разговаривать, а тут с трудом выдавил из себя: «Виноват перед Виктором…»
Сейчас я убеждена, что вы и раньше знали о характере отношений отца с Татьяной Сергеевной. А мы ни о чем не догадывались — ни я, ни сестры; у мамы были подозрения, но очень робкие.
Мы все любили Татьяну Сергеевну, были ослеплены ее красотой, женственностью, умом и, господи, как всегда, радовались ее приходу! Светка отшвыривала учебники и бросалась ей на шею. Мы с мамой принимались накрывать на стол. А когда садились обедать, выходил из кабинета отец, и тут уже совсем начинался праздник. Обычно малоразговорчивый, отец в присутствии Татьяны Сергеевны расходился: рассказывал о своей молодости, путешествиях, шутил, и это всегда было так интересно, что мы боялись слово пропустить.
В последний раз Татьяна Сергеевна пришла увезти маму и папу на свой банкет, устроенный в честь защиты диссертации.
Мама возилась в ванной с волосами, а отец, уже побритый, причесанный, в белой отглаженной сорочке, пришел в гостиную и попросил Татьяну Сергеевну застегнуть ему запонки.
Татьяна Сергеевна склонилась над изуродованными руками, и я видела, как у него молодо и влюбленно засветились глаза, на острых скулах вспыхнул румянец, в один миг он весь преобразился и, высокий, худощавый, сухой, как мореное дерево, показался мне не менее красивым, чем склонившаяся над его руками молодая нежная женщина; даже изуродованные руки показались мне прекрасными.
Я с наивным восторгом подумала: шли бы они на банкет одни, а маму оставили дома — как бы это здорово было со стороны!
Боже мой! До чего мы были слепые! Ну, я, Руфина, Светка — понятно, неискушенные девчонки. А мама? Уже целый год с отцом жили врозь: отец в кабинете, а мама — в столовой. Постель стелила на узенькой неудобной кушетке. Каждый вечер, когда она укладывалась спать, я видела в ее глазах обиду и тоску. С этим же выражением в глазах она заговаривала несколько раз с Татьяной Сергеевной:
«Танечка, вы в институте целыми днями вместе с Глебом Кузьмичом. Скажите, ничего такого не замечали? Нет там подле него какой-нибудь вертихвостки? Я думаю, все это неспроста».
«Да что вы, — весело успокаивала Татьяна Сергеевна. — Глеб Кузьмич ушел в науку. Он сейчас создает самый главный труд своей жизни. Все мысли у него только в нем. Может, от этого и недостаточно внимателен к вам».
«Ой, что-то не то, не то», — с сомнением качала головой мама.
Вы уже уехали работать в экспедицию, когда в газете появилась ваша статья, вернее не ваша, а Мутовкина, за его подписью, но все почему-то решили, что статью написали именно вы, — и отец, и мама, и я, и сестренки. О, сколько разговоров в те дни о вас было в нашем доме.
Отец категорически заявил:
«Ничтожество! Ушла жена, и он теперь мстит из-за угла. На такое способны самые мелкие, самые завистливые душонки. Своей завистью он погубил бы ее талант».
Признаюсь, я думала о вас теми же словами: ничтожество, завистник. Простите, Виктор Степанович! Теперь-то я знаю: вы — другой, совсем-совсем другой, и догадываюсь, как вам в последнее время тяжело было в нашем городе, ведь вы, наверно, единственный человек, который знал о несчастной любви моего отца и о том, как делалась диссертация, а вы, бывая у нас, даже виду не показывали, что все знаете.
Простите меня! Сейчас, может, вы единственный на свете, к кому я могу относиться с полным доверием. Вы да еще ваш друг Саша Мутовкин.