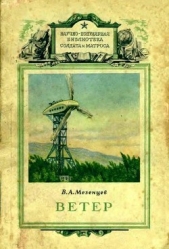Одесситы

Одесситы читать книгу онлайн
Они - ОДЕССИТЫ. Дети "жемчужины у моря", дети своей "мамы". Они - разные. Такие разные! Они - рефлексирующие интеллигенты и бунтари- гимназисты. Они - аристократы-дворяне и разудалый, лихой народ с Молдаванки и Пересыпи. Они - наконец, люди, вобравшие в себя самую скорбную и долготерпеливую культуру нашего мира. Они - одесситы 1905 года. И страшно знающим, что ждет их впереди. Потому что каждый из них - лишь искорка в пожаре российской истории двадцатого века. Снова и снова звучат древние горькие слова: "Плачьте не о тех, кто уходит, но о тех, кто остается, ибо ушедшие вкушают покой..."
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ГЛАВА 14
— И клянусь здоровьем покойной мамы, мадам Кегулихес, она мне говорит прямо в лицо: целковый! За паршивую камбалу, вы такое можете себе представить?
— Ой, Рахиль, что вы такое говорите! Я всегда говорила: у людей теперь совести нет, и скоро совсем не будет. А вы что?
— А я ей говорю: почему же в тринадцатом году вы же мне же продавали ту же камбалу за пятиалтынный? А она говорит: нашли чего вспоминать, теперь война второй год. А я говорю: люди, будьте все свидетели нашему разговору! Что, камбалу призывают на войну? Какое отношение рыба имеет к войне?
— Вы здравомыслящая женщина, Рахиль. Мне всегда такое удовольствие с вами разговаривать.
Рахили, к ее удивлению, тоже эти часы были приятны. А поначалу она даже поплакала, что приходится идти внаем. А что делать? Моисей уехал в Вену, конечно, назначив сестре содержание. Она его аккуратно получала каждый месяц, но теперь же такие цены — хоть ложись и умирай. Писать Моисею и просить еще денег было неловко. И так сколько он для них делает. За квартиру Рахиль ничего не платит, а как это важно в такое время — надежная крыша над головой. Но чтоб сводить концы с концами, Рахиль нанялась присматривать за старухой. Семья богатая, но у всех свои дела, а тут бабушка сломала бедро: кто-то ж должен быть с ней днем? Официально должность Рахили называлась — чтица: работа чистая и необидная. Но, хотя Рахиль и могла разбирать надписи, о чтении вслух не могло быть и речи. Да и ни к чему это оказалось. Старуха была нравная и желчная, семья ее побаивалась, но Рахиль она почти сразу полюбила — не за чтение, а за разговоры. Ей было утешительно узнавать, что времена теперь плохие, и все идет не так — не то что в ее молодости.
— Так вы говорите — бросили мостить?
— Да, и вы себе представляете вид? Желтый лоскутик — на виду у всей Одессы, а вокруг булыжники эти. Нечего было и начинать.
Речь шла об искусственном немецком камне клинкере, которым начали мостить площадь рядом с Думой, но из-за войны контракт прервался.
— А газеты теперь — чуть не сплошь белые: цензуру ввели, так вообще ничего почти не печатают. Так белую бумагу и продают.
— Хоть какой-то толк от газет. А то и завернуть ничего нельзя было: и руки пачкались, и все. А что ваша девочка пишет?
— Слава Богу, довольна на новом месте. Но я этого не понимаю, мадам Кегулихес: с таким талантом — зачем эти все театральные студии, и почему обязательно Москва? Шимек, когда учился, никуда из Одессы не уезжал, а играл, как ангел, и люди плакали, когда его слушали, клянусь вам. Но как отменили черту оседлости — вся молодежь прямо сбесилась. Подавай им столицы, Одесса им уже маленькая.
— А что, платят ей там в этой студии?
— Пока приходится помогать. Там в Москве, похоже, одним пением не прожить. Но она скромно живет, ей много не надо.
— Благодарите Бога, Рахиль. Вы же знаете, какие теперь певицы бывают. На тройках шастают, по рукам ходят, в шампанском купаются. Ничего себе занятие для порядочной девушки. Уж лучше скромно жить с маминой помощью, чем нескромно — с чьей-то другой.
— Ой, что вы говорите, она у меня не такая…
Больше всего Рахиль боялась, чтобы Яков не узнал, куда она ходит, поэтому подгадала свои часы с мадам Кегулихес на время, пока Яков был на уроках. Незачем мальчику знать, что матери приходится зарабатывать. Он и так дерганый какой-то стал: того и гляди бросит гимназию. Вот пришлось покупать новую форму, в старой уже нельзя было, руки на ладонь из рукавов торчали. Так что же он устроил? Шестнадцать лет, нервный возраст. А немножко обидно: работал бы как отец с четырнадцати, и в синагогу бы ходил, и никаких бы нервов не было.
Яков запомнил этот поход за формой на Александровский проспект. Там над лакированными полками висела лакированная же надпись: «Цены без запроса». Он примерил китель, и началось. Его называли красавчиком, и очаровательным молодым человеком, но цену заломили такую, что Рахиль ахнула и запричитала. Сгорая от неловкости, он снял китель и решительно сказал матери:
— Пойдем отсюда.
— Молодой человек, вы куда? Вы гляньте в зеркало: чистый Макс Линдер вы в этом кителечке! Мадам, где ваши глаза? Это же удача — раз на тысячу лет!
Рахиль вернулась и предложила половину.
— Клянусь детьми, мадам, и эта цена — себе в чистый убыток! Только потому что я хочу сделать уважение такому красивому молодому человеку.
Эта торговля с воплями и клятвами тянулась бесконечно долго, и Якову было стыдно за мать, и стыдно оттого, что стыдно. С горящими щеками он вынес покупку еще и брюк (Рахиль, разумеется, включила их в ту же половину), но когда дошло до мундира, сдавленным шепотом пообещал матери, что бросит гимназию, если они немедленно не уйдут. Мундиры были необязательны, а тут как раз пришел Куцап из их класса с отцом, тоже за формой — и ему приказчики выносили мундир и прочее барахло с поклонами. И держали шинель, пока он вдевался в рукава, а не швыряли, как его матери, на прилавок.
Впрочем, Яков был теперь без предрассудков. Он бравировал бедностью, и наплевать ему было на холуев-приказчиков. Жизнь его теперь была заполнена другим, и началось это неожиданно, этим летом, в театре «Юмор». Яков любил этот летний театрик в саду на Екатерининской площади. Вечерами пыльное дощатое сооружение преображалось: дуговые лампы сияли молочной чистотой, заманчиво помаргивали цветные гирлянды электрических лампочек, политый после дневной жары гравий доброжелательно скрежетал под ногами. Там блистали Чернов и Вронский, и в городе считалось особым шиком «одеваться под Вронского» — красавца-шатена, первого любовника труппы. Молодой еще Хенкин заставлял публику рыдать от хохота куплетами, которые распевала вся Одесса, а он каждый вечер прибавлял все новые. Он изображал многодетного учителя танцев и хороших манер: тут же галдящая семья, и тут же идет обучение, и все время что-то происходит, к хорошим манерам не имеющее отношения. А на сцене — один человек, но кажется, что сцена полна, вот-вот кто-то свалится в публику.
— Кавалеры, приглашайте дамов:
Там где брошка, там перед!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и поворот!-
Яков стонал от смеха. Он прикидывал, как удачно переделаются эти куплеты на гимназические темы. Теперь ввели обязательную военную подготовку с деревянными винтовками, и скоро опять начнется: «две шаги налево, две шаги направо». Яков был в классе признанным поэтом, кому же и воспеть.
Тут его толкнул в локоть студент, сидевший рядом с краю, и когда недовольный Яков повернул голову, указал ему глазами на двух городовых, входивших в театр. Потом сунул ему какой-то сверток, прижал палец к губам и быстренько пересел на заднюю скамейку. Яков, сообразил, что студент, надо полагать, революционер, и, польщенный, прижал к себе тяжеленький сверток. Тревога, однако, оказалась ложной: никто студента не тронул. По окончании представления Яков медленно вышел со свертком в похолодевший сад. Он старался не оглядываться: студент должен был идти за ним.
— Ну, давайте, юноша. Благодарю за помощь, — сказал наконец студент, когда они оказались в надежной темноте.
— А вы, я вижу, не из робкого десятка.
— Вас это удивляет? — ответил Яков. И с этого началось их знакомство.
Что до этого была жизнь Якова и что был он сам? Неясные мечты о поэтической славе, муки: гений он или нет, нетвердый интерес к движению «Паолей Цион», переживания из-за малого роста… Были друзья — с такой же бессмысленно-щенячьей жизнью: Максим и Антось. Самое геройское их чтение были сочинения Писарева — просто потому, что гимназистам это запрещалось. Студент — он назывался товарищ Андреев — прочистил и разобрал перед Яковом хаос его же собственных взглядов, и все стало великолепно ясно. Вся эта военно-патриотическая показуха, как и чувствовал Яков — просто судороги обреченной империи. Мир пора изменить. Монархии — на свалку, вся власть — рабочим и тем, кто их поведет за собой. Пропаганда насчет ненависти к немцам — ерунда, как и вообще вся эта национальная возня. Немцы дали миру Карла Маркса, а Маркс провозгласил интернационализм. Да знает ли Яков, что в пятом году половина русских изданий «Манифеста» была напечатана здесь, в Одессе? Подпольно, разумеется. Есть ли призвание выше, чем быть подпольщиком? Через тюрьмы, виселицы, каторги — к счастью человечества!