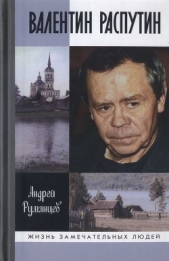Повести и рассказы
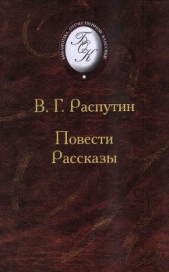
Повести и рассказы читать книгу онлайн
Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, произведения которого стали классикой отечественной литературы, писатель редкого художественного дара. Его язык - живой, точный и яркий, драгоценный инструмент, с помощью которого Распутин творит музыку родной земли и своего народа, наделяя лучших своих героев способностью ощущать «бесконечную, яростную благодать» мироздания, «все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть...».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сеня не помнил, как он воротился домой.
У стола лицом к двери сидела Галя, не снимая телогрейку, и ждала его. Что было говорить! — Сеня тыкался слепо из угла в угол: нельзя было уйти от Гали и нельзя было оставаться, и одна только мысль так же слепо тыкалась в нем: как бы провалиться в тартарары? Галя следила за ним, словно все еще чего-то ожидая, потом в неожиданном припадке уронила голову на стол и, пристукивая ею, сдавленно, страшно, чужеголосо выкрикивала:
— Сеня! Сеня! Сеня!
Порывы ветра становились все сильней и злей, и к ночи земля ходила ходуном. Сеня лежал без сна и, пытаясь защититься, натягивая на себя одеяло, слушал, как гремит и стонет на разные лады: «Сеня! Сеня! Сеня!»
НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
(1998)
На работу Алеша Коренев собирается долго и с тем тщанием, с тем тревожным волнением и нетерпением, которые и должны сопровождать подготовку к делу нерядовому. Как только обозначается рабочий день, примерно раз в месяц, иногда чаще, иногда реже, а случается, что и два дня подряд, к Алеше подкрадывается сладкая и неопределенная истома, как перед встречей с женщиной, редко соглашающейся на свидания, он невольно начинает холить себя и нежить, дает себе выспаться, книги читает спокойные, эпического и чистого письма, окунаясь то в «дворянские гнезда» с их теплой и возвышенной жизнью под просторным небом, то в размеренное и ленивое существование старых городов, настроен в такую пору, несмотря на волнение, приподнято, по утрам вскакивает с постели быстро и радостно, то и дело застает себя за мурлыканьем какого-нибудь лирического мотива, волны вдохновения наплескивают в сердце и сами собой являются первые слова, которые он скажет и от которых заранее хмелеет. Только в эти дни накануне работы испытывает он что-то похожее на уважение к себе — на уважение, смешанное с удивлением; его, этот поднимающийся парок от более свободного и уверенного дыхания, который можно назвать уважением, не в состоянии испортить ни ирония, ни насмешки, полезные для здоровья, ни раз и навсегда выставленная своей личности нелестная оценка. Себя — такого, каким он бывает на работе, Алеша еще знает плохо, не понимает, откуда он, такой, взялся, ему не хочется разбираться, хорошо ли то, что он делает, и, доверяясь всякий раз приятному горению в себе, с каким входит в роль, окончательный разговор с собой вот уже несколько месяцев все оттягивает и оттягивает.
Живет Алеша в общежитии, в угловой комнате, темной, неряшливой и состарившейся до предела. Напротив входной из коридора двери единственное окно, большое, тусклое и заваленное влево, глядящее подслеповатыми стеклами во двор, грязный и замусоренный; справа от двери шкаф, громоздкий и стонущий на разные голоса, отзывающийся на каждый Алешин шаг; стоит шкаф на двух ножках и на двух подставках, одна из которых коробка с книгами, а вторая — поднятая на ребро шахматная доска. Шкафом отгорожен закуток, вмещающий тумбочку и низкую, провисшую до пола, лежанку. С левой стороны от двери металлическая, изъеденная бурыми пятнами раковина под краном, за нею двухконфорочная газовая плита, имеющая счастливый вид еще полезной вещи, подобранной со свалки, в углу сооружение, называвшееся когда-то трюмо, на котором родное зеркало отсутствует, а на прямоугольной фанерной спинке прикреплено посредине круглое, почти новое, которое глядит недовольно и от несчастной жизни искажает Алешины черты. В правый передний угол, где света больше, подоткнут наперекосяк такой же громоздкий, как шкаф, стол с двумя тумбами для выдвижных ящиков; поперечной рейкой он поделен хозяином на две половины — на письменную и столовую. И комната, и меблировка в ней прошли жизнь такую долгую и суровую, что в потолок, в стены, в пол, в вещи она впечаталась навсегда. Горький и затхлый запах, запах курева и нездорового дыхания отсюда уже нельзя изгнать, печаль и тяжесть легли на все унылой пленкой. Въехав сюда два года назад, Алеша и побелил, и покрасил, и наклеил на прокопченные стены светленькие обои с нежным узором, на котором в ряды пузатеньких ваз заглядывают слева и справа изгибающиеся розовые цветочки, а уже через полгода все опять потемнело и утонуло в безысходной тоске.
В общежитии Алеша Коренев начинал свою городскую жизнь, приехав сюда восемнадцать лет назад, и общежитием, тем же самым, теперь продолжает ее. Ему тридцать пять лет, дважды был женат, поменял две квартиры. Он теперь уже не стал бы, как прежде, улыбаться снисходительно, если бы зашел разговор о том, что всякое имя, даваемое по святцам ли, или, казалось бы, наугад, из воздуха, не бывает случайным, а есть звуковой и образный оттиск личности, это имя носящей. Вот и он: он мягок и чуток характером, на светлом лице, без азиатчинки скуластом, чуть вытянутом, все расчерчено правильно и все мужское, но без мужской продавленности и крепости черт, а подбородок, вздернутый и наплывший шишкой, уже и совсем не ставит под сомнение его мужественность. Имя его подходит даже к голосу — несильному, чистому и чувственному. Голос в его новых занятиях не последнее дело, им, то приспуская, то приподнимая, то заставляя трепетать, можно увлечь за собой слушателей куда угодно. Было время, когда после защиты диссертации называли его в лаборатории, где он недолго начальствовал, Алексеем Васильевичем, но почти у всех, даже у совсем молоденьких лаборанток, даже у студенток-первокурсниц, это полное имя выговаривалось с кокетливой веселостью и с одолжением, и он сам понимал, что по избытку ли чего-то в нем или по недостатку на полное имя он не тянет.
А теперь оно и вовсе ни к чему.
В торжественный день, называющийся у него рабочим, который, как правило, выпадает на выходные и праздники, приступает он к обязанностям далеко за полдень, часов в пять-шесть. Накануне, утомленный ожиданием, он бывает рассеян и вял, все чувства в нем приспущены, мысли не собраны, все караулы спят, чтобы легче было проникнуть внутрь чему-то постороннему, хорошо его знающему, что способно завтра навести в нем безупречный порядок. После этого всласть отсыпается, а поднявшись, сделав вторую и решительную побудку крепким чаем, начинает чувствовать тревожное и приятное томление, уже знакомое по прежним таким же дням и всякий раз новое, всякий раз заполняющее его непостижимым огненным током. С удовольствием опуская и подталкивая за собой общежитскую дверь, чтобы она с силой, как первый удар гонга, хлопнула, он выходит на улицу, заставленную старыми деревянными домишками, сгорбленными и глазастыми, где обитают, кажется, одни только старики, все развлечение которых — смотреть в окна, зная едва не каждого прохожего. Автобусная остановка рядом. Алеша Коренев, сильнее обычного отмечающий каждый свой шаг, через десять минут садится в автобус и едет в центр.
Он еще не готов к работе, далеко не готов. В центре живут его друзья, муж и жена Сидейкины, Игорь и Ольга, неразлучные с первого курса в университете. Благодаря им Киевскую Русь на физмате знали не хуже, чем на историческом факультете. У Сидейкиных в квартире Алеша держит некоторые свои вещи, которые не решается окунать в общежитский быт и дух. Там его уже ждут, он долго плещется в ванне, до боли и красноты натирая тело, бьет себя упругой и колкой душевой струей, вспоминая при этом общежитский душ в подвале на грязном и скользком цементном полу с цементными же лавками для одевания. Здесь его белье прошло сквозь стиральную машину, он одевается во все чистое, хрустящее и бодрящее, ощущая застывший запах утюга и терпкость можжевельника, который держат в гардеробе от моли. Квартира у Сидейкиных просторная, он находит место, чтобы отдохнуть, полностью уйдя в себя, покачивая себя, как в люльке, в блаженной истоме, затем, еще вялый, изнеженный, идет полюбоваться на трех дочерей Сидейкиных, когда они дома, девиц четырнадцати, десяти и восьми лет, черноволосых, глазастых и смешливых, остающихся всякий раз недовольными им, потому что он не может удовлетворить их любопытство к своей работе. Старшие, его друзья по университету, когда и они дома, стараются не обращать на него внимания, зная, что он здесь не робеет и занят собой, своими приготовлениями.