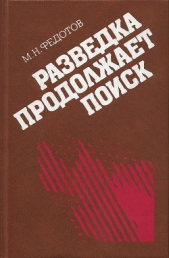Запятнанная биография

Запятнанная биография читать книгу онлайн
Ольга Трифонова - прозаик, автор многих книг, среди которых романы-биографии: бестселлер "Единственная" о судьбе Надежды Аллилуевой, жены Сталина, и "Сны накануне" о любви гениального физика Альберта Эйнштейна и Маргариты Коненковой, жены великого скульптора и по совместительству русской Мата Хари.В новой книге "Запятнанная биография" автор снова подтверждает свое кредо: самое интересное - тот самый незаметный мир вокруг, ощущение, что рядом всегда "жизнь другая есть". Что общего между рассказом о несчастливой любви, первых разочарованиях и первом столкновении с предательством и историей жизни беспородной собаки? Что объединяет Москву семидесятых и оккупированную немцами украинскую деревушку, юного немецкого офицера и ученого с мировым именем? Чтение прозы Ольги Трифоновой сродни всматриванию в трубочку калейдоскопа: чуть повернешь - и уже новая яркая картинка...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Там столбик и стрелка, очень просто.
— Да.
И вижу все сразу: желтый кафель стен, старый клен за огромным окном, солнечные пятна на зеленой лужайке и серо-сизое лицо больного. Щетина на щеках, щетина на черепе. Голубоватое худое тело, синие ситцевые трусы и впалый живот. Его словно вынули из золы и не смыли тончайшую пыль.
На лице больного резиновая маска, ее придерживает та, которой я должна сообщать показания приборов. Очень загорелая, ярко накрашенные глаза над марлей. Сидит у изголовья, взглядом приказывает подойти ближе.
— И без глупостей, девочка. Здесь не до тебя, поняла?
— Поняла.
Пепельная рука тянется к маске, вяло, неточно, не дотягивается, падает, снова тянется. Хриплое бульканье. Я не буду смотреть, не буду. Только на приборы.
Кто-то прошел рядом. Слева закрыла стол чья-то широкая спина, и по другую сторону напротив встал кто-то. Я не буду смотреть. Но что это? Зачем он поднимает это страшное, сине-фиолетовое, с черными пальцами, что было когда-то ногой, и как смог, ведь он же под наркозом! Это Янис Робертович поднимает, задирает высоко, а кто-то мажет широко, как маляр, йодом.
— Девочка!
Я говорю цифры.
— Да потише! Я слышу.
Я говорю тихо, через равные промежутки, по приказанию ее глаз. Я слышу звяканье инструментов, потом звук пилы, что-то пилят, быстро, ритмично. Почему так мало крови на тампонах, которые бросают в таз, ведь отрезают ногу. Говорю цифры, и вдруг глухой стук, в таз падает что-то коричнево-бурое, обмотанное до половины бинтами и полотенцем, похожее на копченый свиной окорок.
Я не хочу жить в мире, где человеку отрезают ногу, я не хочу жить в этом страшном мире.
— Девочка! — свистящее шипение.
Вбивают что-то железное, железным молотком-цилиндром, я вижу, как он поднимается — и вниз. Опять пила. А рядом сестра готовится к переливанию крови спокойно, деловито.
Я не хочу жить в этом несправедливом мире! И как ужасна беззащитность человека на этом столе и его отсутствие во время происходящего с ним страшного и непоправимого. Я говорю цифры.
— Хватит. Спасибо.
Я не ухожу. Я не могу оторвать взгляда от пепельного, обсосанного болезнью старого лица, я не могу уйти от этого человека, со мной что-то произошло, я не могу от него уйти, как не могла бы от самого родного.
— Иди, ты мешаешь, — это та, с кровью, — иди, я приберусь сама.
Обошла дом, да вот оно, окно на втором этаже, огромное окно и клен под ним. Я села на землю. Черные дрозды прыгали в траве, не боясь меня. Так вот как расплачиваются за радость видеть это зеленое, и солнечные пятна в листве клена, и черные глянцевые тельца дроздов, и туман у моря, и песчаные откосы, поросшие соснами! И почему надо расплачиваться? И почему именно он, этот, которого ждет возвращение из беспамятства, и боль, и ночная палата, и понимание непоправимости, и боль, боль, боль, надолго. За что! Что он такое плохое сделал? Я не хочу жить в этом несправедливом мире! После смерти Бурова Валериан Григорьевич все повторял одно и то же: «Теснишь ты его до конца, и он уходит; он изменяет лицо свое, и ты отсылаешь его». Теснит до конца. Никого не щадит: ни великих, ни малых. Зачем Риману суждено умереть молодым, зачем свершилось ужасное за огромным окном, где виднеется круглое полушарие операционной лампы? И вокруг эти корпуса, наполненные страданием до краев. Сколько здесь убогих: хромые, беспалые. Служат няньками, сторожами. Может, надежда, что дойдет и до них очередь, что, когда наконец врачи смогут, научатся исправлять их уродство, они станут первыми. А может, среди страданий, увечий свое переносится легче. Мир кривого зеркала, и над всем этим — олицетворение успеха и здоровья Янис Робертович. Ему полной мерой. Талант, красота, успех, и Агафонову полной мерой, и Олегу. А Трояновскому? Не похоже. Но ведь он выглядел много счастливее Агафонова, хотя говорили только об успехах Агафонова, о его заграничной славе, о дипломах и премиях.
Хозяин, как нарочно, подбадривал, распалял простодушными расспросами, восхищенными репликами, в какой-то момент показалось — издевается, и стало стыдно за Агафонова. Впервые и очень болезненно, жгуче. Хотелось остановить, защитить, сказать Трояновскому насмешливое, резкое, не успела: Агафонов, как счастливый игрок, небрежно, будто пустяк зряшный, выложил главный козырь — дзета-функцию. Господи, что тут произошло. Трояновский словно взмыл к потолку и дальше уже летал по темным комнаткам беленького домика. Из каждого полета приносил то стопку бумаги, то рюмочки зеленого стекла, то бутыль с наливкой, приволок старинный портфель темно-вишневой кожи и все совал его Агафонову в подарок, не боясь осуждающего взгляда жены. Потом угомонился. Сидел напротив Агафонова, выписывающего на листе формулы, и с готовностью прилежного ученика кивал непонятным мне речам.
Вдруг пришло решение: уеду к Трояновскому. Возьмет же меня лаборанткой. Уеду. Нечего мне здесь делать среди страданий, нечего влачить бессмысленное существование в огромном пустынном доме возле чужих людей, нечего бояться взглянуть на дом, на дерево, чтоб не удариться в воспоминание. Решено. Дождусь последней получки — денег на билет — и уеду.
…«Там беззаконие перестает буйствовать, и там отдыхают истощившиеся в силах». Откуда я это помню?
Валериан Григорьевич читал по вечерам вслух. Книга Иова. Говорил, что это высокая поэзия, и спорил с Олегом, как всегда, о непонятном. Олег горячился:
— Я материалист, но понимаю претензии этого несчастного Иова и сочувствую им, а эти объяснения бездоказательны. Что это за логика: «Кто заградил вратами море и назначил ему предел. И сказал: доселе доходи, а не далее, и здесь будешь действовать величием волн твоих». Красиво, но неубедительно. А укоры Иова убедительны.
— Вот в этом-то и есть главный догмат религии: не нужно доказательств, нужно верить, понимаешь, просто верить.
— Не понимаю.
Как давно это было. Круглый стол-сороконожка, козья шаль с кистями на плечах Елены Дмитриевны; ночная пустынная Москва, Олег за рулем; чертежи на кухонном столе, ноющий гул первого поезда метро в бетонном коридоре у Измайловского парка; теплый, на всю жизнь единственный запах мамы, когда войдет и спросит тихо:
— Опять не спала?
«Ты помнишь ли, Мария, утраченные дни?»
Дрозды взлетели разом, и чья-то тень упала на траву.
— Ну что? Худо? — спросили сзади. — Угораздило вас сразу на самую тяжелую попасть.
«Р» мягкое, знакомое. Обернулась. Так, снизу, показался еще более фундаментальным, просто небо заслонил широкими плечами.
— Поднимайтесь, — протянул руку.
От запаха, волной хлынувшего при движении, от халата, от руки замутило.
— О-о… плохо дело, — протянул, не отпуская руки, — а держалась хорошо.
И как мог видеть, хорошо или плохо держалась, когда работал словно плотник, сосредоточенно, споро.
— Семнадцать минут без швов, — сказал кто-то уважительно, войдя в бокс, где переодевались. Семнадцать минут, а показалось меньше.
— Ну-ну, ничего, ничего, — похлопал легонько по щекам. На секунду ощущение оскорбления, злость — как смеет!
— А почему круги такие под глазами? — Взял за подбородок крепко. — Месячные или экономия на чулки?
Дернулась, пытаясь высвободиться. Не отпустил.
— Надо есть, — сказал внушительно, — молоко, и творог, и черный хлеб, и черники сейчас в лесу полно. Чернику собираешь?
— Нет.
— Зря. Очень полезно. Ты где живешь?
— В Апщуциемс.
— Курземе. Самые черничные места. В воскресенье собери и на мою долю тоже. — Вел по дорожке, крепко держа за локоть.
— Я змей боюсь.
— А сапоги на что? Боты ведь есть наверняка.
— Есть. Мне сюда, — дернулась к высокому крыльцу лаборатории.
— Пойдем, — согласился, будто звала.
Локоть не отпускал, хотя в дверях сунулась вперед. И что-то было в его прикосновении, что-то переходящее от него ко мне, успокаивающее.
В лаборатории ни души. Наверное, у начальника в кабинете дела обсуждают.