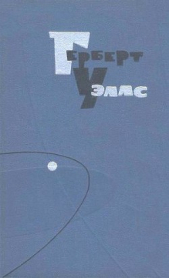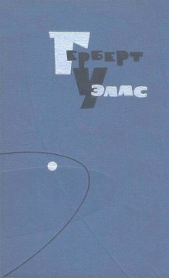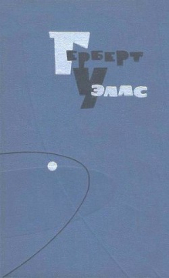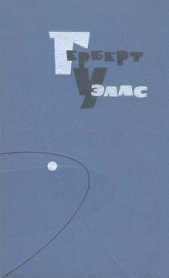Собрание сочинений в 4 томах. Том 3

Собрание сочинений в 4 томах. Том 3 читать книгу онлайн
В третий том Собрания сочинений Сергея Довлатова входят: книга «Ремесло» (часть первая — «Невидимая книга», часть вторая — «Невидимая газета») — история двух попыток издать на родине книгу и создать в США эмигрантскую газету; повесть «Иностранка» — история русской женщины в Нью — Йорке; сборник «Чемодан» — рассказы из ленинградской жизни; «Холодильник» — незаконченная книга рассказов, наподобие «Чемодана»; «Из рассказов о минувшем лете» — три рассказа о писательской жизни в Америке, написанные летом 1988 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Статьи они писали быстро и талантливо.
Отделом юмора заведовал Соколовский. Один из самых ярких людей в эмиграции. Писал он с необычайной легкостью и мастерством. Чаще всего это были стихотворные фельетоны. Или миниатюры примерно такого содержания:
Кроме журналистов в редакции постоянно находились самые загадочные личности. К нам тянулись все обездоленные, праздные, разочарованные, запутавшиеся люди. Тем более что рабочий день у нас, как правило, заканчивался выпивкой.
Заходил эстрадник Беленький, который так и не смог получить работу. Зато успел пристраститься к марихуане.
Заезжал на своем радиофицированном такси бывший фарцовщик Акула. Рассказывал о ночных похождениях в Гарлеме и Бронксе.
Например, он говорил:
— Америка любит сильных, мужественных и хладнокровных. Вот уже год я занимаюсь каратэ. Под сиденьем у меня хранится браунинг. В кармане — нож. Мои нервы превратились в стальные тросы. Как-то останавливают меня двое черных. Что-то говорят по-своему. Я понял только одно слово «деньги». А у меня было долларов пятьдесят…
— Ну и чем же все это кончилось? — спрашивали мы.
— Отдал им пятьдесят долларов и рад был, что ноги унес, — мрачно заканчивал Акула…
Появлялся у нас религиозный деятель Лемкус. Говорил, что ведет на какой-то загадочной радиостанции передачи о любви и христианском смирении. Параллельно торгует земельными участками в Рочестере.
Баскин подозрительно спрашивал:
— Что такое Рочестер? Может, это название кладбища?
— Ничего подобного, — заверял его Лемкус, — это сказочное место. Вы можете купить там недорогое бангало.
Эрика раздражало слово «бангало»…
Заходил в редакцию и отставной диссидент Караваев. Это был прирожденный революционер, темпераментный, мужественный и самоотверженный. Недаром он двадцать лет провел в советских лагерях.
Караваев ненавидел советскую власть и отважно противостоял ее давлению. На счету его было девять голодовок и тринадцать месяцев в ШИЗО.
На одном из судебных процессов Караваеву задали вопрос:
— Ваша национальность?
— Заключенный, — ответил Караваев.
Наконец его выпустили по ходатайству Киссинджера. И Караваев оказался на свободе.
Первую неделю он беспрерывно давал интервью западным газетам. Затем прочитал несколько лекций. Опубликовал в русской прессе десяток статей. Речь в этих статьях шла о преимуществах демократии над тоталитаризмом.
Через шесть недель Караваев исчерпал все свои мысли. Отныне ему было совершенно нечего делать.
Профессии он не имел. Языком овладеть не пытался. Литературных способностей не обнаружил. Становиться таксистом ему не хотелось.
Караваев был только героем. К сожалению, это не профессия.
Он ненавидел советский режим. Однако жизнь без него для Караваева лишилась смысла.
Он все больше пил. Неутомимо создавал какие-то партии, лиги, объединения. Писал нескончаемые манифесты и декларации. Призывал окружающих к борьбе за новую Россию. Как, впрочем, и за новую Америку.
Все его произведения начинались словами:
«В обстановке надвигающегося кризиса демократии считаю целесообразным заявить…»
Мы испытывали к нему глубокое сочувствие.
Дважды Караваев приносил мне свои рассказы. Почему-то из жизни дореволюционной аристократической Москвы. Я запомнил, например, такую фразу:
«Барон учтиво приподнял изящное соломенное канапе…»
(Автор, видимо, хотел сказать — канотье.)
Печатать эти рассказы, да еще в газете, было невозможно. Караваев затаил на меня обиду…
Реже других заглядывал экономист Скафарь, который уже год подыскивал невесту. На это уходили все его силы. Пока что брачные конторы рекомендовали ему всякий залежалый товар.
Да и сам экономист едва ли был завидным женихом. Чужестранец в синтетическом пиджаке, без определенных занятий. Вряд ли на такого польстится мадемуазель Брук Шилдс…
Жили мы довольно весело, хотя тучи на горизонте уже сгущались…
Бремя демократии
В Союзе нам казалось, что мы убежденные демократы. Еще бы, ведь мы здоровались с уборщицами. Пили с электромонтерами. И, как положено, тихо ненавидели руководство.
Тоталитаризм нам претил. И мы ощущали себя демократами.
Наконец был сделан выбор. Мы эмигрировали на Запад. Приехали, осмотрелись. И стало ясно, что выбрать демократию недостаточно. Как недостаточно выбрать хорошую творческую профессию.
Профессией надо овладеть. То есть учиться. Осваивать знания.
С демократией такая же история. Потому что демократия — это великая сила, но и тяжкое бремя.
В редакции я многое понял. Ощутил, например, всю степень бессилия мистера Рейгана.
Давить — нельзя. Приказывать — нельзя. Самые незначительные вопросы решаются голосованием.
А главное, все без конца дают тебе советы. И ты обязан слушать. Иначе будешь заклеймен как авторитарная личность…
В Союзе мы были очень похожи. Мы даже назывались одинаково — «идейно чуждыми». Нас сплачивали общие проблемы, тяготы и горести. Общее неприятие режима. На этом фоне различия были едва заметны. Они не имели существенного значения. Не стукач, не ворюга — уже хорошо. Уже достижение.
Теперь мы все очень разные. Под нашими мятежными бородами обнаружились самые разные лица.
Есть среди нас либералы. Есть демократы. Есть сторонники монархии. Правоверные евреи. Славянофилы и западники. Есть, говорят, в Техасе даже один марксист. И у каждого — свое законное, личное, драгоценное мнение. Так что любой разговор немедленно перерастает в дискуссию.
Настоящему капиталисту легче. У него в руках механизмы финансового стимулирования. А наши-то сотрудники работали почти бесплатно. А если ты человеку не платишь, значит, хотя бы должен его любить…
В общем, мало того, что нас давили конкуренты. Мало того, что публику иногда шокировали наши выступления. Но и в самой редакции проблем хватало.
Дело шло с перебоями, рывками.
Бизнес не порок
Мы постигали азбучные истины. Азы капиталистического производства. Так, мы обнаружили, что бизнес — не порок. Для меня это было настоящим откровением. Так уж мы воспитаны.
В Москве «деловыми людьми» называют себя жулики и аферисты. Понятия «маклер», «бизнесмен» ассоциируются с тюремной решеткой.
А уж в литературной, богемной среде презрение к деловитости — нескрываемое и однозначное.
Ведь мы же поэты, художники, люди искусства! Этакие беспечные, самозабвенные жаворонки! Идея трезвого расчета нам совершенно отвратительна. Слова «дебет», «кредит» — нам и выговорить-то противно. По-нашему, уж лучше красть, чем торговать.
Человек, укравший в цехе рулон полиэтилена, считается едва ли не героем. А грузин, законно торгующий на рынке лимонами, — объект бесконечных презрительных шуток.
В Америке, мне кажется, бизнесмен — серьезная, уважаемая профессия. Требует ума, проницательности, высоких моральных качеств. Настоящий бизнесмен умеет рисковать и проигрывать. В минуту неудачи сохраняет присутствие духа. А в случае удачи — тем более.
Я уверен, что деньги не могут быть самоцелью. Особенно здесь, в Америке.
Ну, сколько требуется человеку для полного благополучия? Двести, триста тысяч? А люди здесь ворочают миллиардами.
Видимо, деньги стали эквивалентом иных, более значительных по классу ценностей. Сумма превратилась в цифру. Цифра превратилась в геральдический знак.
Не к деньгам стремится умный бизнесмен. Он стремится к полному, гармоническому тождеству усилий и результата. Самым доступным показателем которого является цифра…