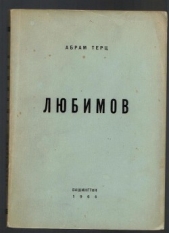Пхенц и другие. Избранное
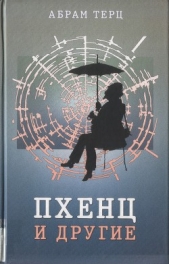
Пхенц и другие. Избранное читать книгу онлайн
В книгу ранней прозы крупнейшего русского писателя и ученого Андрея Синявского вошли написанные с 1955 по 1963 год рассказы и повесть «Любимов».
Эти произведения были переданы автором за границу и с 1959 года начали там публиковаться под именем Абрама Терца, некоторые сначала в переводах.
Произведения Терца этой поры отличаются необычайной степенью внутренней свободы. Социальное несовершенство советской жизни предстает в них не как следствие перекосов системы, а как следствие, в первую очередь, изначальной несвободы людей. В творчестве Синявского последовательно выражен культ свободной личности, самоценной и суверенной.
Абрам Терц обнаружил себя как настоящий модернист, впрочем, ведущий свою родословную от таких реалистов, как Гоголь и Щедрин, и ощущающий генетическую связь с такими писателями, как Замятин, Булгаков, Платонов.
Нельзя не заметить перекличку между антиутопией Терца «Любимов» и платоновским «Котлованом».
Представляем широкому кругу читателей произведения Андрея Синявского, давно не публиковавшиеся в нашей стране.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кому угодно рассказывай эту печальную повесть, в самой что ни на есть популярной форме — ведь не поверят, ни за что не поверят. Если б я хоть плакать мог по мере своего рассказа, а то смеяться кое-как научился, а плакать — не умею. Сочтут безумцем, фантазером, да еще к судебной ответственности могут привлечь: фальшивый паспорт, подделка подписей и печатей и прочие незаконные действия.
А если даже — вопреки рассудку — поверят, — будет еще хуже.
Съедутся со всех концов академики всех академий — астрономы, агрономы, физики, экономисты, геологи, филологи, психологи, биологи, микробиологи, химики и биохимики, изучат до последнего пятнышка, ничего не забудут. И все только спрашивают, выпытывают, рассматривают, извлекают.
В миллионных тиражах разойдутся обо мне диссертации, кинофильмы и поэмы. Дамы станут красить губы зеленой помадой и заказывать шляпки в виде кактуса или по крайней мере фикуса. И все горбуны — несколько лет — будут пользоваться у женщин колоссальным успехом.
Названием моей родины назовут автомобильные марки, а моим именем — сотни новорожденных младенцев, не говоря уже об улицах и собаках. Я стану известен как Лев Толстой, как Гулливер и Геркулес. И Галилео Галилей.
Но при всем этом общенародном внимании к моей скромной особе никто ничего не поймет. Как же понять меня им, если сам я на их языке никак не могу выразить свою бесчеловечную сущность. Все верчусь вокруг да около и метафорами пробавляюсь, а как дойдет дело до главного — смолкаю. И только вижу плотное, низкое — ГОГРЫ, слышу быстрое — ВЗГЛЯГУ и неописуемо прекрасное ПХЕНЦ осеняет мой ствол. Все меньше и меньше этих слов остается в увядающей памяти. Звуками человеческой речи лишь приблизительно можно передать их конструкцию. И если обступят лингвисты и спросят, что это такое, я скажу только: ГОГРЫ ТУЖЕРОСКИП и разведу руками.
Нет, уж лучше буду влачить одинокое инкогнито. Раз появился такой специфический, так и существуй незаметно. И незаметно умри.
А то, когда я умру, — а я скоро умру, — они заспиртуют меня в большую стеклянную банку и выставят на обозрение в зоологическом музее. И проходя вереницами, начнут содрогаться от страха и, чтоб подбодрить себя, станут смеяться нахально, оттопыривать брезгливые губы: «Ах, какой ненормальный, какой некрасивый ублюдок!»
А я не ублюдок! Если просто другой, так уж сразу ругаться? Нечего своими уродствами измерять мою красоту. Я красивее вас и нормальнее. И всякий раз как гляжу на себя, наглядно в том убеждаюсь.
Перед тем, как мне заболеть, сломалась ванна. Я узнал о несчастье поздно вечером и понял, что это Кострицкая, чтобы мне досадить. От бедной Вероники помощи не ожидалось. Вероника обиделась на меня после того инцидента, когда она предложила самое лучшее, с человеческой точки зрения, что у нее в запасе имелось, а я вместо этого пошел гулять.
Теперь — сквозь стенку — до меня иногда долетали ее воздушные поцелуи с одним актером из театра Станиславского, с которым они поженились. Я был искренне рад за нее и даже послал к свадьбе анонимный торт за 16 рублей с ее инициалами и вензелями, выполненными шоколадом.
Но есть мне хотелось невероятно, а ванну повредила Кострицкая, чтобы меня погубить, и дырку, из которой струится вода, — в ожидании починки — забили деревянной пробкой, и вода не текла. Поэтому, когда все улеглись, и с этажа, что надо мной, и с этажа, что подо мной, а также с боков донесся умеренный храп, я снял с гвоздя Вероникино корыто, которое висит в нашей уборной среди других соседских корыт. Оно гремело, как гром, пока я волок его по коридору, и в нижнем этаже, под полом, кто-то перестал храпеть. Но я довел свой труд до конца, вскипятил чайник на кухне, набрал ведро холодной воды и все это снес к себе в комнату, и заперся на задвижку. А в замочную скважину сунул ключ.
Как приятно скинуть одежды, снять парик, оторвать ушные раковины из настоящей гуттаперчи и отстегнуть ремни, стягивающие спину и грудь. Мое тело раскрылось, точно пальма, принесенная в свернутом виде из магазина. Все члены, затекшие за день, ожили и заиграли.
Я установился в корыте, одной рукою схватил губку, чтобы размазывать воду по всем сухим местам, другой — чайник. А в третью руку взял кружку с холодной водой и, добавив туда кипятку, попробовал оставшейся четвертой рукой, не слишком ли горячо получилось. До чего удобно!
Кожа хорошо всасывала драгоценную жидкость, льющуюся на меня с высоты из эмалированной кружки, и, утолив первый голод, я решил осмотреть себя повнимательнее, чтобы смыть нездоровую слизь, выступившую из пор и застывшую кое-где сухими лиловыми сгустками. Правда, мои глаза на руках и ногах, на темени и на затылке начали заметно слабеть, скрытые в дневное время жесткой одеждой и накладной шевелюрой. Один глаз ослеп еще в 34 году, натертый правым ботинком. Было трудно с должной тщательностью произвести осмотр.
Но я вертел головой, не ограничиваясь полукружием — жалкой ставосьмидесятиградусной нормой, отпущенной человеческой шее, я заморгал всеми глазами, какие были в сохранности, разгоняя усталость и мрак, и мне удалось увидеть себя со всех сторон — сразу в нескольких ракурсах. Какое это увлекательное зрелище, к сожалению, теперь доступное мне лишь в редкие ночные часы. Стоит воздеть руку, и видишь себя с потолка, так сказать, возвышаясь и свешиваясь над собою. И в то же самое время — остальными глазами — не упускать из виду низ, тыл и перед — все свое ветвистое и раскидистое тело.
Может быть, не живи я на чужбине тридцать два года, мне бы и в голову не пришло любоваться своею внешностью. Но здесь я единственный образчик той утраченной гармонической красоты, что зовется моею родиной. Что же мне делать еще на земле, если не восхищаться собой?
Пусть моя задняя рука скрючилась от постоянной необходимости изображать человеческий горб! Пусть на моей передней руке, искалеченной ремнями, уже отсохло два пальца, а мое старое тело потеряло прежнюю гибкость! Все равно, я красив! пропорционален! изящен! вопреки утверждениям всех завистников и критиканов.
Так рассуждал я, поливая себя из кружки, — в ту ночь, когда Кострицкая задумала меня убить посредством сломанной ванны. А наутро я заболел, должно быть, простудившись в корыте, и началось самое трудное время в моей жизни.
Я лежал полторы недели на своем жестком диване и чувствовал, как высыхаю. У меня не было сил сходить за водой на кухню. Мое тело, туго спеленутое в человекоподобный кулек, онемело и затекло. Засохшая кожа потрескалась. А я не мог приподняться и ослабить путы, острые, будто из проволоки.
Так прошло полторы недели, и никто ко мне не входил.
Я представлял себе, как после моей смерти обрадованные соседи позвонят в поликлинику. Приедет участковый врач констатировать летальный исход, наклонится над диваном, разрежет хирургическими ножницами одежды, бинты и ремни и отпрянет в ужасе от дивана, и велит поскорее доставить мой труп в самый лучший, в самый большой анатомический театр.
Вот она — банка со спиртом, жгучим, как духи Кострицкой! В ядовитую ванну, в стеклянный склеп, в историю, в назидание потомкам — на вечные времена — погружают меня — урода, наиглавнейшего урода Земли.
Тогда я застонал, сначала тихо, потом громче, ненавистным и неизбежным человеческим языком. «Мама, мама, мама», — стонал я, подражая интонации плачущего ребенка — в расчете пробудить жалость в том, кто бы меня услышал. И призывая на помощь в течение двух часов, я поклялся, если только выживу, сохранить до конца свою тайну и не дать в руки врагам на растерзание и глумление последний клочок моей родины — мое прекрасное тело.
Вошла Вероника. Она заметно похудела, и взгляд ее, очищенный от любви и обиды, был ясен и равнодушен.
— Воды! — прохрипел я.
— Если вы больны, — сказала Вероника, — вам надо раздеться и смерить температуру. Я вызову врача. Вам поставят банки.
Врач! Банка! Раздеться! Не хватало еще, чтобы она трогала мой лоб, прохладный, как комнатный воздух, и щупала раскаленными пальцами несуществующий пульс! Но, поправляя подушку, Вероника брезгливо отдернула руку, прикоснувшуюся к моему парику. Должно быть, мое тело возбуждало в ней, как в прочих людях, лишь одно отвращение.