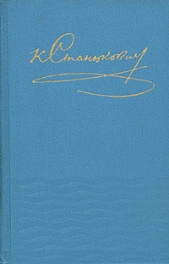В двух километрах от Счастья

В двух километрах от Счастья читать книгу онлайн
Илья Зверев (1926–1966) родился в г. Александрии, на Украине. Детство провел в Донбассе, юность — в Сибири. Работал, учился в вечернем институте, был журналистом. В 1948 году выпустил первую книгу путевых очерков.
Илья Зверев — автор многих книг («Ничего особенного», «Государственные и обыкновенные соображения Саши Синева», «Все дни, включая воскресенье…», «Второе апреля», «Трамвайный закон» и др.). Широкому кругу читателей известны его рассказы и повести, опубликованные в журналах «Знамя» и «Юность». По его произведениям сделаны кинофильмы и спектакли («Непридуманная история», «Второе апреля», «Романтика для взрослых»).
Писатель исследует широкие пласты жизни нашего общества пятидесятых и первой половины шестидесятых годов.
В повестях «Она и он», «Романтика для взрослых», в публицистических очерках рассказывается о людях разных судеб и профессий. Герои И. Зверева — колхозники, шахтеры, школьники. Но о чем бы ни шел разговор, он всегда одинаково важен и интересен читателю: это разговор о мужестве и доброте.
Собранные воедино произведения, публиковавшиеся прежде в разных книгах, позволяют с особенной полнотой ощутить своеобразие творчества Ильи Зверева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Юра зачем-то прочитал вслух мокнувшее на стене объявление, написанное утром школьным завхозом, любителем краеведения:
ЖЕЛАЮЩИЕ УЧАЩИЕСЯ ЕХАТЬ НА ЭКСКУРСИЮ В НОВОДЕВ. МОНАСТЫРЬ, ЗАПИСЫВАТЬСЯ У ЗАВХОЗЧАСТИ.
Потом Юра свистнул и сказал странное слово:
— Фарщемпщ!
Неизвестно, что означает это слово, — во всяком случае, оно на редкость точно передавало Юрино состояние.
Во время этих катастроф в седьмом «Б» внезапно объявилась и возвысилась новая крупная фигура. Это был некий Женя Доброхульский, мальчик с разными глазами и ватой в ушах. Он учился в классе первый год, да к тому же заболел где-то в начале первой четверти и только теперь выздоровел. Он появился на третий день бойкота и, естественно, ничего не знал о смутах, раздиравших седьмой «Б», и ни к какой партии не принадлежал.
Вот такое положение человека, стоящего над схваткой, сразу подняло этого Доброхульского на недосягаемую высоту. Лучшие люди обоих лагерей ходили к нему жаловаться на интриги неприятеля и требовали беспристрастного суда. И за какие-нибудь несколько часов этот тихоня, этот ушастик вдруг надулся, заважничал, и, прежде чем что-либо сказать, непременно пыхтел, а сказавши, обязательно добавлял: «Вот так это выглядит с объективной точки зрения».
С помощью тихого Жени классовая борьба достигла уже совершенно мартеновского накала. Как-то сам собой осуществился Машенькин проект, и в седьмом «Б», безусловно, не осталось никого, кому бы не было плохо!
После уроков в класс вбежала Ариадна Николаевна и, остановившись в дверях, вдруг спросила очень тихо и устало:
— Ну что, люди? Хорошо вам?
Никто ничего не ответил.
— Так что же делать? — спросила Адочка еще тише.
— Не знаем, — сказал Коля.
— И я не знаю, — сказала Адочка почти шепотом и почти заплакала. (Не могу объяснить, что значит «почти заплакала», но это точно.)
— Я знаю, — сказал вдруг Лева, и голос его прогремел, как гром. — Придется сесть, как сидели.
И партия махерваксовцев со вздохом облегчения ликвидировалась. Фонаревцы проявили великодушие и не стали ликовать по поводу самоубийственной речи неприятельского вождя. Только Ряша что-то такое пискнул, мол, наша взяла, но незамедлительно схлопотал по шее от справедливого Гены.
И сразу настало мирное время. И Сашка как ни в чем не бывало достал свой марочный альбом. И председатели двух елочных комиссий ринулись друг к другу, как родные братья после двадцатилетней разлуки. И бывшие Левины единомышленницы кинулись рисовать вытачки и рюшечки, лихорадочно наверстывая упущенное в период ковбоек и лыжных штанов. И Кипушкина официально подошла к Гене и попросила данные о том, сколько ребят в классе работает над собой.
— Шестнадцать, — ответил Гена.
— Это много.
— Ну, тогда десять, — сказал Гена, чтобы поскорее отвязаться.
— Десять, пожалуй, — важно сказала Кира. — Только не десять, а девять — гладкие цифры хуже…
А Юра Фонарев подошел к Леве, положил ему руку на плечо и сказал, что вчера по радио объявили: следующее солнечное затмение в нашем городе будет 12 ноября 1996 года. И оно будет недолго, всего только две минуты.
— Надо не прозевать, — озабоченно ответил Лева.
1965
ХУДОЖНИК ТЮТЬКИН — СЫН ОРЛОВА
Первые люди, пришедшие в понедельник в шестой «Б», — Юра Фонарев, Сашка Каменский и Машка, — вдруг обнаружили, что они вовсе не первые. В этот ранний час у доски уже торчал художник Тютькин и что-то такое малевал мелом.
— Ой, — сказала Машка, взглянув на его художество, — смотрите, ребя, как здорово!
— Ого, — сказал Юра.
А этот пижон Сашка надул щеки, посмотрел одним глазом сквозь дырочку в кулаке, отошел на два шага, снова посмотрел и сказал:
— Просто Иохим Рембрандт ван Рейн! Винцент Ван-Гог и Василий Иванович Суриков.
Художник Тютькин самодовольно засопел и спросил небрежно:
— Кроме шуток?
— Кроме, — сказала Машка. — Абсолютно кроме. Он зверски похож!
И потом каждый трудящийся, входя в шестой «Б», обязательно говорил что-нибудь вот этакое:
— Гений!
— Но Коля! Прямо как живой!
— А ухо-то, ухо! Ну, точно.
— Что там ухо? Все точно!
А хорошенькая кисочка Машенька (учтите — это не Машка, а Машенька, совсем другая, совершенно другая девочка)… Так вот, Машенька спросила:
— А артиста Рыбникова срисовать можешь?
— Почему срисо? — высокомерно сказал Тютькин. — Не срисо, а на-ри-со… — и торжественно закончил: — вать.
Посыпались заказы. Трудящиеся хотели увидеть дружеский шарж на Адочку (в смысле на Ариадну Николаевну), карикатуру на завуча, портрет Гагарина, атомную лодку и еще там всякое разное. Тютькин томно кланялся и ничего определенного не обещал.
— А мне голубя, — сказала Машка.
— Мира? — спросил Тютькин, впервые проявив интерес.
— Нет, просто. Сизаря.
— А ты гоняешь? — почтительно удивился Тютькин, который, конечно, знал, что Машка свой парень. Но чтоб до такой степени!
Но так он и не выяснил (и мы тоже не узнаем), гоняет или не гоняет. Потому что в ту самую минуту появился Коля. И все завопили:
— Коля! Коля! Смотри, Коля, как тебя здорово Тютькин нарисовал!
Коля посмотрел на курносую, ушастую, лупоглазую рожу, намалеванную на доске.
— Почему это меня? — спросил он, внимательно оглядев честную компанию.
— А кого же?! — закричали все. — Ты только посмотри.
— Ну, Тютькин, кого ты нарисовал? — негромко спросил Коля и взял художника за шкирку (а я забыл сказать, что этот квадратный Коля со своей круглой башкой был самый сильный человек всех шестых классов).
— Не тебя-я-я! — завопил Тютькин.
— Как же не тебя?! — закричали любители справедливости. — Смотри, вот ухи. И бровь — одна вверх, другая прямо!
— Значит, меня? — сердечно спросил Коля и поднял бровь так, что все ахнули: до чего похоже. — Меня, значит? — И сел верхом на Тютькина.
— Не тебя-я-я!
— А кого же, если не Колю? — настаивали правдолюбцы. — Как не стыдно врать, Тютькин?
Может, Тютькину и стыдно было врать, но на нем же сидел Коля, и это, наверно, сильно мешало…
Вы, пожалуйста, не осуждайте весь шестой «Б», в котором, конечно, много вполне порядочных и благородных людей. Просто рисунок был слишком обидный, и, честно говоря, каждый на месте Коли мог бы обидеться. Конечно, будь на его месте, скажем, Сашка Каменский, он бы парировал выпад художника какой-нибудь блестящей эпиграммой, которая, может быть, кончалась бы как-нибудь убийственно (например: «Эх ты, Тютькин, Тютькин, Тютькин, ты художник, но свинья»), А председатель совета отряда Кира Кипушкина, будь она на месте Коли, она бы, пожалуй, притащила художника на совет отряда и поставила бы такой моральный вопрос, что ему было бы в сто раз тошнее, чем если бы на него сели два Коли и даже четыре Коли. Но надо учитывать, что Коля не имел ни власти, ни остроумия. И что же ему оставалось, кроме как сесть на Тютькина? Вот он сел, и сидел, и не знал, как ему быть дальше.
— Не тебя-я… А… а Ваську Трубачева… Из второй школы.
— Вот видите, — с облегчением вздохнул Коля и сразу же честно слез с Тютькина. — Трубачева какого-то…
— Дурак ты, — сказал Сева Первенцев. — Васек Трубачев — это не из какой не из школы. Это книжка такая есть.
Тогда Коля треснул художника по шее, стер рукавом его произведение и написал на доске:
СМЕРТЬ ТЮТЬКИНУ!!!
— А у тебя в самом деле уши преступника, — вызывающе сказала Машка, которая, конечно, не боялась Колю и вообще никого не боялась.