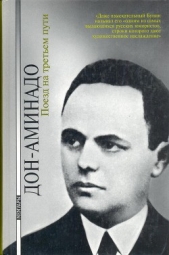Свастика и Пентагон

Свастика и Пентагон читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Парчова кивнула.
– А девоньку ты не признаешь? – Она сощурилась.
– Это я, грибок. Пятнадцать годков мне. Вот он, мой любезный-то.
Она ткнула пальцем в улыбающегося смуглого парня в униформе, стоящего рядом с девушкой на фото.
– Влюбилась я тогда. Девочка молодая, сердечко нежное. Да и не только сердечко, – старуха похабно хихикнула. – Ничего не понимала, а просто подошел мужчина – молодой, красивый, приласкал умеючи, и сердечко-то у девочки и сгорело, нежное. Как любил-то, как миловал-то! Первый он у меня был, а по-сердечному и последний.
А потом кто-то из наших чего-то украл у немцев, кто-то из мальчишек. А немчики выбрали наобум мальчиков – человек с десяток – и расстреляли.
А всех остальных согнали смотреть, для острастки.
А мой любезный – смотрю – там, среди них, спокойный такой, добрый, с сигаретой. На меня глянул, улыбнулся так ласково, как будто не он только что мальчиков наших у всех на глазах расстреливал.
Вот с этой-то его улыбки я и повредилась душой, – старуха постучала пальцем себе по переносице. – Злая стала, ненавистная. Как нашито Крым освободили, я сразу на фронт пошла, медсестрой. Но не нравилось мне лечить бойцов наших раненых, мне хотелось фашистов убивать.
А доброты у меня к нашим раненым не было. Бывало, кричит какой-нибудь с койки: «Сестричка!»
А я ему: «Дикая лисичка тебе в лесу сестричка!»
Так вот. Но, хоть и медсестра, а привелось мне убивать гадов этих – фашистских немцев. Стреляла я хорошо. Глаз ясный. И мне полегчало малость после этого. Только по ночам орала во сне: «Хорст!
Хорст!» Милого своего звала в забвении. Так и начался у меня этот кашель. Тело ночью кричит:
«Хорст! Хорст!» Уже не глоткой кричит, а грудным нутром. Душа-то забыла все, а тело – оно помнит.
Душа – глупая пробка, а тело – умная бутылка, все помнит. Вот оно как, сокол. Кашель мне сердце рвет из тела, потому что гада полюбила, гадского, звериного изверга. Так и извергла бы его из себя, блеванула бы сердцем!
Курский, казалось, без особого интереса внимал рассказу старухи. Он все рассматривал фотографию и потом спросил:
– А это что еще за свастика на стене? Фашисты нарисовали?
– Большая-то? Нет, она там всегда была, в камне долбленная. Для Тягуновых делали, злых колдунов. Я в этом доме проклятом с детства живу, все знаю про этот злой дом. Ее всегда каким-то хламом заставляли, чтобы глаза не ела, ее же не собьешь, не закрасишь – прямо в камне выдолбили, аккуратненькую такую. Чертов крест, прости Господи, у которого все перекладины пополам сломлены.
Парчова замолчала, уставясь на Курского остановившимися янтарными глазами. Курский тоже молчал и словно скучал, посматривая то в окно, то в телевизор. Там Штирлиц в кожаном пальто шел по весеннему Берлину.
– А стариков-соседей я убила, – вдруг пресно и без всякого выражения произнесла Парчова. – Отравила. Только ты не докажешь.
– Чем же вы их отравили? – спросил Курский вяло.
– Мое дело. Все тебе расскажи. А может, вот этим, – Парчова указала на пузырьки с лекарствами, стоящие на тумбочке. – Смешала, смешала, смешала, смешала – вышел яд-ядок, поросячий сок. На кой тебе ляд паучий яд? – Парчова снова затряслась.
– Зачем же вы это сделали?
– А из мести, по злобе. Первый, Лобнев-то, случайно умер. Не ему яд предназначался. Я Антонину убить хотела, Тоньку Руденко, гадину старую.
С детства ее знаю, вместе тут вырастали.
В детстве подружками были, неразлучницами, а потом возненавидела я ее. Это она украла тогда, она, я знала. Из-за нее любовь моя погибла, из-за нее мальчиков наших расстреляли. Она украла у майора и затаилась. А я-то знала, всегда знала. Если б не она, может, уцелела б во мне душенька моя девичья. А потом я двоих отравила. Дураки они были, не стоило им свет собой марать. Я хотела учительницу под монастырь подвести за то, что она чертову колесу, чертову кресту поклоняется.
И детей невинных с ума сводит.
– Вы к смерти этих стариков не имеете никакого отношения, Парчова, – произнес Курский сухо.
– Не имею? – Парчова вдруг метнулась со своей кровати в угол, где стоял бедный шкафчик, стала рыться там, бормоча: «Чертов крест, чертов крест!»
Вдруг она выдернула что-то и протянула Курскому.
Это была маленькая свастика на цепочке, отделанная мелкими алмазами.
– Из-за нее все… Чертово колесо майор на шее носил. Тонька и украла.
Свастика свисала на цепочке из кулачка Парчовой.
Желтые, синие и зеленые огни вспыхивали на гранях.
– Очень милая вещица, – Курский встал, держа в руках фотографию. – Every girl wants to have her own swastika. Каждая девушка желает иметь свою свастику. Красивая вещица. Наверное, вы ее и украли у майора? Признайтесь. Впрочем, не признавайтесь. Все равно к преступлению, которое я расследую, вы не причастны. Алмазную свастику тогда украли вы, и не было у вас причин убивать ни Тоню Руденко, ни других ваших соседей.
В любом случае, спасибо. Вы очень помогли мне. Особенно эта фотография. Теперь я знаю, где скрывается убийца. Вы заслужили вашу алмазную свастику. Поправляйтесь!
Курский вышел. Вслед ему несся истошный старушечий кашель, исторгаемый бронхами крик:
«Хорст! Хорст!»
Курский вошел в свою комнату у Шнуровых и лег спать. Он спал не более двух часов, потом сел за стол у открытого окна и быстро написал два письма: одно – полковнику Иоффе, другое – Лиде Григорьевой. Писалось ему легко, вдохновенно, хотя иногда ему и казалось, что он вот-вот умрет, но это его не смущало. Настолько весело сделалось на душе. Письма получились такие:
«Дорогой Олег Борисович!
Надеюсь, настроение Ваше улучшилось со времени последней нашей встречи, и вот что собираюсь сообщить.
Относительно Вас сложились в моем воображении две фигуры: каждая по-своему великолепна и трагична, и, учитывая чуть ли не шекспировский размах этих фигур, спешу поделиться с Вами своими набросками. И только лишь с Вами.
Поначалу воображал себе некоего Иоффе, офицера КГБ, еврея, у которого фашисты убили родителей, он вырос в детском доме, усыновлен советской властью и посвятил себя службе могучей и процветающей стране СССР. Но страна, которой он служил, исчезла, и образовался зияющий пробел в душе этого человека, способного к служению и по сути страстного, и пробел этот был заполнен тем, что ранее скрывалось, – любовью.
Любовь, впрочем, столь долго оставалась под спудом, столь долго страсти этой души сдерживались рамками долга, что любовь приобрела мазохистический характер. Освободившись, душа потребовала страдания, она пожелала стать наказанной, и знак, который она избрала себе, стал знаком позора, самоотречения, самонаказания.
Такой человек, чьи измученные страсти вырвались из-под спуда, способен и на убийства, он желает, возможно, возложить жертвы на алтарь своей любви, тем более что он, скажем, болен паранойей и при этом, по долгу службы, умеет убивать и заметать следы, а также знаком с ядами, сложно поддающимися выявлению, с экзотическими ядами.
Мы же не знаем, в каких далеких странах работал разведчиком наш офицер.
Не знаем. А он, тем временем, поклоняется свастике, знаку своих врагов. Он умело (ведь он хороший разведчик) навязывает этот культ той женщине, в которой его сердце обнаружило источник сладостной боли. Она, по сценарию его страсти, должна сделаться носителем и держателем этого знака, она должна стать тем хозяином, который пометил его, добровольного раба, этим жестоким клеймом.
Он, возможно, хочет подарить ей дом, имеющий форму этого знака, и значимость этого королевского подарка намерен упрочить истреблением его «случайных» обитателей.
Да, было бы изящно. Но я хорошо знал Витю Херувима, я уважал его как мастера и знатока душ и тел, он был из касты черных цикад, из разряда высохших, но внимательных. Вряд ли он стал бы делать «фреску» (так Херувим называл большие – в полтела – наколки) тому человеку, чью душевную драму я только что пытался Вам описать.