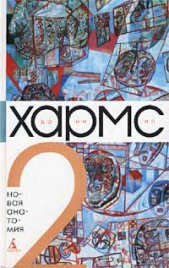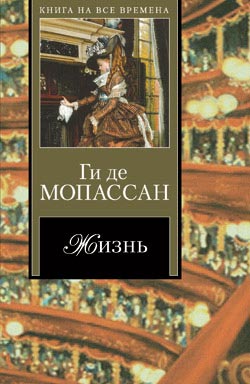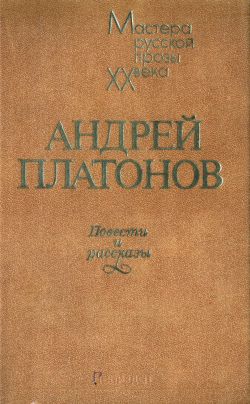Плакали чайки
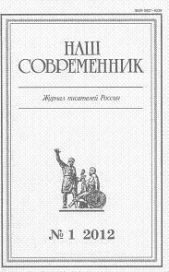
Плакали чайки читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он обошёл все закидушки, поднялся по берегу до клуба, но подумал и не стал, идя назад, начинять крючки, кубарем смотал лески на разбухшие осклизлые мотовильца. На последней закидушке всё же болтался бледненький елец, за ночь прибитый волной о камень. Иван Матвеевич чего-то пожалел рыбёшку и не стал кормить её кошке, а бросил в реку. Ельчику бы юркнуть на илистое дно, затеряться среди камней, да он бессильно повалился на бок, и налетевшая чайка, хищно раскинув клюв, ударила по нему и понесла, точно серебряную ложку.
III
Была у него заначка — бутылка белой, которую он выудил из ямы да припрятал, не надеясь получить в праздник вспоможение от старухи.
В кухне Иван Матвеевич, накренив полный стакан, суеверно накапал на стол и, пока водка текла с обтрёпанной по углам клеёнки, убегая в щели меж половиц, держал свою горькую долю на весу. И водка дрожала в стакане, сама собой выхлёстывалась за гранёные края.
— Ну, братики-солдатики, лежите покойно! — и, помолчав, будто ожидая ответного голоса из-под пола, за павших в бою и в миру раздавил фронтовые (это он гордился, что раздавил, а на деле одолел в три захода, замирая дыхалами), закусил чесноком в фиолетовой кожурке, накрутив колёсико радиоприёмника, откуда тихо пело: «Этот День Победы по-о-рохом пропа-ах!»
Всё в нём забродило от знакомого мотива, не от водки лишку развезло, так что, поднимаясь, он загрёб горстью клеёнку, хоть Иван Матвеевич и обвык, что все кругом кликали его последним ветераном…
Последним из стольких красивых русских мужиков, которых когда-то встречало с Победой село!
…Он хорошо помнил серенький, тоже при дождичке, тёплый пыльный день, дребезжащую бортовуху с молчаливым пареньком, который захватил его из порта Осетрово. Иван Матвеевич с утра дожидался попутки на село и уже погулял по главной районной площади, поел в столовке «Голубой Дунай» бесплатных пирожных, посмотрел постановку — на площади выставили машину с открытым кузовом, и артистка Смирнова, напустив на грудь красный платок, бухала жёлтыми туфельками в дощатый грубый пол и, как стаю голубей, выпускала старые частушки — победных ещё не сложили:
Паренёк был чубатый. Так хорошо из-под козырька, верно, отцовской кожаной кепки вились мягкие послушные волосы. Солнцем, молодостью светилось круглое, как подсолнух, лицо. Было оно в маленьких рыжих конопушках, которых он, дурачок, стыдился и воротил глаза, горевшие огнём. Он доставил спавших в кузовке артистов к бревенчатому Дому культуры, а сам выпросился домой до утра: нельзя было дольше, каждый день в честь Победы давали по району концерты. Звали паренька Славик — и это весеннее, женское имя особо глянулось Ивану Матвеевичу, который наскучал по бабам, по ребятишкам, загрубел в окопах, прокоптил шинельку злым табаком, забил ногти землей, кровью, смертью.
— Как батёк-то? Навоевался? — едва въехали в сосновый лес и сладко, вольно нанесло в отпахнутое окно сыростью земли, холодом травы и прелостью старых листьев, спросил Иван Матвеевич и закрыл от невозможности глаза, греясь палившим в лицо солнцем.
Славик перекатил в горле кадык, но ничего не сказал, только сухой огонёк финской зажигалки, стрельнувшей у него в руке, свободной от баранки, заплясал фиолетовой тенью на его омрачившемся лице. Приоткрыв на миг глаза, коря себя за любопытство, приметил Иван Матвеевич неладное с парнем, хотя это не любопытство было — зудилось поболтать с земляком, услышать родную речь.
— Отвоевался! — наконец хрипло сказал Славик, швырнув в бардачок папиросы. — Мамка ещё в сорок первом получила похоронку, бабка Зоя поправляла ей голову…
— Где полёг?
— На Втором Прибалтийском, — чеканно ответил Славик, словами этими, как священной оградой, забирая и жизнь, и смерть своего отца.
— Война… — ничего не выдумал Иван Матвеевич, обронил, как чувствовал, как едино говорили до него, и весь остатний путь молчал, глядя на бежавшую под колеса дорогу, изредка — на пристальность Славкиного юного лица в зеркальце, тщательно обтёртом тряпкой…
Не переваривал Иван Матвеевич, когда ребятишки пытали его «за войну», а если Таисия брала за ноздри и гнала в сельпо за разным дефицитом — само собой, поперёк очереди, — он, изматерив её до жути и едва не прибив сжатыми добела кулаками, убегал в баню и там сидел безвылазно — садил сети, подшивал валенки или впрок колол из полена зубья для граблей.
В прежнее время в клубе трещала ручка аппарата, и в кольцах душной застоялой пыли крутилось военное плёночное кино, а на белом дерматине экрана драли горло в бравых песнях и форсили на передовой чистые опрятные солдатики. Они форсировали вброд чёрные, кипящие от пролитого свинца реки, в которых фашисты тонули, как слепые кутята, брали без выстрела немецкие укрепления, будто бы сотворённые чуть ли не из картона, вовсю дурачили гитлеровских командиров да налево и направо крутили любовь, само собой, с прогулками под ручку и ломанием черёмухи у реки. Едва высидев первые эпизоды, Иван Матвеевич стукал спинкой красного деревянного кресла, на мгновение загораживая своей скорбной пригнутой тенью жизнь какой-то другой, ему не ведомой войны, где не жужжат пули, и уходил до перерыва, от обиды и невозможности горькой правды на земле, по-солдатски скупо и скрытно заплакав на пустом тёмном крыльце…
Сам же он всю жизнь бережно хранил в себе воспоминания о священной, даже не хранил — они сами, своей волей всегда и всюду были при нём. Не сказать, чтоб война загребла его и, как шелудивая баба, не отпускала. Иван Матвеевич был отходчив — но как от смерти отойдёшь?
И чем бы ни полнилась голова, о чём бы ни тужило сердце — главной тяжелью была эта непроходящая боль, а уже за ней вставали рядком другие боли. Эти только ныли, только зудели, только шпыняли, не пробирая до души, не поворачивали её только на себя, не вставали над бедной, как рваная свинцовая туча над ободранной ранней пашней, не загоняли стервятниками…
Но и исклёванная, с красными от выплаканной крови бельмами, ни на одну боль, кроме боли о поруганной русской земле, не оборачивалась душа так преданно и по-женски безропотно!
Остарев в остаток, застыв перед гробом в ярости выстывающей седины, он, как минувшее утро, помнил всё: пыль и духоту землянок, осеннюю кисейную мокреть и вязкую грязь передовых, звёздный холод и огонь ночных рек, а более всего почему-то тёплую болотную воду в котелке, мутную от песка, который сыпался с потолка блиндажа, слаженного из неошкуренных сосёнок, — пробежит ли с катушкой проволоки связной или под чьим-то задом расцветёт багровым цветком снаряд, окропит красным и порвёт одёжку на безвестном солдате…
Тая свою боль, забывая её для всех и не умея похоронить для себя, — как вчерашнее, милое, дорогое перебирал Иван Матвеевич в памяти качание дощатого бортика грузовухи. Он всё дрожал, скрипел ржавым шарниром, хоть Славка и притормозил на своротке в село — будто грузовуха прощалась с Иваном Матвеевичем, отлетая в другие края за мёртвыми, живыми ли побратимами-окопниками, но которым сомлела в девичьей непочатости родная земля.
— Давай, Славик, счастливо тебе! — за руку крепко попрощался Иван Матвеевич со своим случайным шофёром и сбросил нехитрые манатки на траву — зелёную, в пыльных разводах от мелкого утреннего дождя. — Матери поклон передавай…
— От кого?
— От солдат, — Иван Матвеевич подогнул нашарканные в долгом пути голенища кирзовых сапог — последней «роскоши» войны — и, помахав Славке, оставаясь при дороге один, вдруг подкосился в ногах и ополз прямо на пыльную обочину, увидев небо — большое, светлое небо родины.
Шёл он в село мимо леса, от счастья и резкости воздуха, разряженного недавней грозой, дурея головой, как мальчишка.