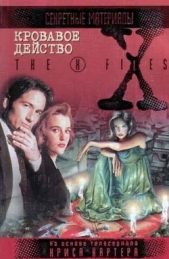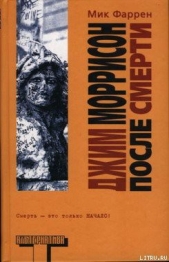Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом
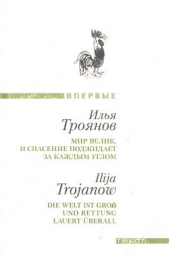
Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом читать книгу онлайн
Герой романа, вместе с родителями бежавший ребенком из социалистической Болгарии, став юношей, в сопровождении крестного отца, искусного игрока в кости, отправляется к себе на родину, в Старые горы — сердцевину Болгарии, к землякам, которые сохранили народный здравый смысл. Это современная философская притча о трудных поисках самого себя в мире рухнувших ценностей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Муж Златки, рано покинувший сей свет, покоился в семейном склепе, жертва неумолимого творческого призвания. По мнению его вдовы, во всем была виновата судьба… вообще-то дирижеры живут долго … утверждала она и принималась перечислять всемирно известных Мафусаилов дирижерского пульта. Творческая сила божественного происхождения и тем самым божественная услада придавала крепость этим людям, таково было ее твердое убеждение. При этом она упускала из виду, что даже божественная благосклонность бессильна против никотина, против ежедневных дьявольских кровопусканий, необходимых для снижения давления.
Когда он, ныне ушедший, опочивший, счел в свое время за благо выйти из тьмы безвестности в потрескивающее напряжение битком набитого зала Оперы, к маленькой дежурной лампочке, свет которой слепит как свет прожектора, под робкие предварительные аплодисменты поднимать палочку, посылать ободряющую улыбку первой скрипке и, еще раз движением плеч поправив пиджак, вызвать к жизни первый звук, то в конце, когда аплодисменты становились все громче, его уже ничто больше не удерживало дома, в городе, в стране. Когда Григорий Григоров превратился в музыкального коммивояжера, раз в несколько месяцев он на недельку-другую наведывался домой, часто затем, чтобы присутствовать при рождении очередной дочери или отпраздновать оное. Господь благословил его дочерьми, равно как и музыкальным успехом. Он уже привык выходить из поезда, обнимать старшую дочь и ловить ее сладкое дыхание, льнущее к его уху… Папа, а у нас есть еще одна маленькая сестричка… И каждый возраст он воспринимал со спокойной радостью, а потом он умер — и все семь женщин стояли у его гроба: шесть раз черные кудри и один раз белое великолепие седины.
А Златка передавала сладость по наследству, она подсахаривала сны, мечтания и амбиции своих дочерей. На ее десерты можно было израсходовать любое количество миндаля, а десертов она готовила много. Что до ежедневной потребности, то здесь между ней и ее дирижером царило полное взаимопонимание. Когда он ел ее стряпню, то трапеза неизменно должна была завершаться чем-нибудь сладким, немножко, это верно, но чтобы после главного блюда встать из-за стола и сразу перейти в гостиную — об этом и речи быть не могло. А вот что до количества, то тут их взгляды в корне расходились. Он, эстет строгой дозировки, умудрялся разделить даже самый маленький кусочек пахлавы на две части и потом долго, с наслаждением держал во рту эту половинку, пока она не растает. А дамы, в первую очередь, конечно, мать, не могли противостоять искушению второго кусочка.
Если вам когда-нибудь доведется перелистывать журнал, в котором приводятся образцы человеческой мании величия, то в нем, в этом объемистом фолианте, вы лишь один-единственный раз обнаружите упоминание Златкиной родины как страны, которая отличается высочайшим уровнем потребления сахара во всем мире. И вы сразу догадаетесь, кому эта страна обязана столь славным первенством и какое семейство здесь особенно порадело.
В этой семье домашний бог носил вместо шляпы сахарный колпак, в этой семье царил идеал сахарной свободы, сугубо семейное несчастье называлось здесь ограниченные нормы отпуска. Ибо нарушались равновесие со своим сахарным стержнем и заведенный порядок. Теперь нельзя было пойти и просто купить. А дополнительное несчастье — это когда сахарная свекла мало-помалу перестала соответствовать требованиям времени, прошел даже слух, будто каждая свеклина наделена подрывной силой, она росла все хуже и хуже, она очень сдержанно размножалась, она создавала трудности при уборке и, наконец, слишком скоро начинала гнить или самовозгораться.
Ах, эта сладкая жизнь, столь часто воспетая и столь редко пробуемая на вкус, как то было в доме господина дирижера и его Златки. Сладкая жизнь, гибель твоя, почти ежедневно предрекаемая, хотя по большей части без умысла. Когда в киноклубе первый раз после войны начали крутить шедевры итальянского кино на языке оригинала, с синхронным переводчиком, который самолично потел перед экраном, однажды вечером на этом экране напряженным глазам зрителей явилась настоящая Dolce Vita, и поди угадай, поведал ли впоследствии кто-нибудь хитроумному господину из Чиннечитты, что в этом зале, набитом фанатами сахара, его ирония пропала втуне. Напротив, весь зал в полном составе мечтал о том, чтобы переселиться на экран.
Впрочем, мир велик, и в другом месте произрастает сахарный тростник, постепенно завоевавший то историческое признание, которое было до такой степени утрачено местной свеклой. Тростник — это гуэрильо, ром — его оружие, чтобы спаивать власть в суете ее ночной жизни, власть отечную, с замедленной реакцией, слепую. Когда сахарный тростник на правах авангарда проник в глотки врагов, это стало уже лишь вопросом времени, до тех пор, покуда однажды вечером Златка не собрала в кухне шесть своих дочерей, не попросила у старшей губную помаду и не нарисовала на комоде огромное, пылающее красное сердце, а под сердцем большими буквами — КУБА.
Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом.
АЛЕКС. Безветрие
Я прыгаю с одной программы на другую, выглядываю в окно, созерцаю выставку нижнего белья на соседском балконе, экран отражается в стекле, усилием воли я наконец заставляю себя открыть окно, высовываюсь из него, жду, когда ветер взъерошит мои волосы, считаю машины, медленно смежаю веки, медленно-медленно, пока весь транспорт не сольется в одну сплошную ленту, опоясывающую каждое здание. Если я открою дверь, меня встретит коридор с темно-коричневым ковровым покрытием, массивные двери, дощечки с фамилиями жильцов, фамилии, только фамилии и всегда по две, управляющий выписал их и разделил черточкой при помощи струйного принтера («Хьюлетт Паккард» новейшей модели, который я помог ему приобрести со скидкой). Один из соседей по этажу оставляет снаружи перед дверьми детскую коляску, другой — свои башмаки. Колеса у коляски вполне чистые, подметки у башмаков тоже. Порой я обнаруживаю в резиновом рельефе мелкие камушки — как мне кажется, с дорожек расположенного поблизости парка. Если я провожу дома весь день, а так оно чаще всего и бывает, меня по вторникам и пятницам будит пылесос, потому что сплю я долго. Через глазок в двери я вижу обмотанный шалью затылок, затылок наклоняется, наверно, чтобы подтащить пылесос.
Регулярно я подхватываю грипп, раза три в год, примерно недели на две. Какими впечатлениями одаривает меня тогда окружающий мир? Распространитель подписки на газеты, ирландского, судя по всему, происхождения, советует мне пить горячее пиво с медом, чтобы хорошенько пропотеть, и выказывает неподдельное разочарование, когда этот добрый совет не побуждает меня оформить подписку. Пожилая дама, сильно смахивающая на Джона Белуши, а рядом — для умягчения — дама помоложе. По недомыслию открываю дверь. Передо мной стоят очень милые люди, и у них своя миссия. Весьма кстати, я как раз болею. Исцеление близко, спасение тоже. Да-да, эти очень милые дамы доставляют мне прямо на дом призыв вступить в новое объединение, указывающее направление, внушающее надежду и так далее и тому подобное. Я смущенно опускаю глаза, спотыкаюсь о туфли обеих дам, летом о сандалии, на младшей еще и юбка, и как знать, может, я и согласился бы, чтоб меня спасли, догадайся она заранее сбрить волосы на ногах, а так — ну что мне прикажете делать в райских кущах подобной антиженственности?
В одну из суббот меня сгоняет с постели очередной визитер. Я вздрагиваю при виде безукоризненной солдатской формы и серьезного широкого лица, над которым берет. Я теряю дар речи. Тусклый неоновый свет в коридоре силится придать хоть какое-то подобие блеска этой встрече пижамы и мундира.
— Мы собираем средства на могилы участников войны, — говорит мундир.
— Лично я хотел бы купить «першинг», — отвечает пижама.
Берет съезжает набок, растерянно и криво.
— На охрану солдатских могил, — говорит мундир.