Все во мне
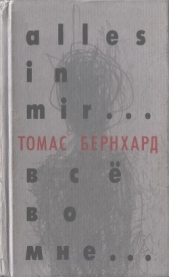
Все во мне читать книгу онлайн
Автобиографические повести классика современной австрийской литературы, прозаика и драматурга Томаса Бернхарда (1931–1989) — одна из ярчайших страниц "исповедальной" прозы XX столетия и одновременно — уникальный литературный эксперимент. Поиски слов и образов, в которые можно (или все-таки невозможно?) облечь правду хотя бы об одном человеке — о самом себе, ведутся автором в медитативном пространстве стилистически изощренного художественного текста, порожденного реальностью пережитого самим Бернхардом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Подвал: ускользание
© Перевод Р. Райт-Ковалевой
Все это беспорядочные, но непрерывные движения вперед по неизведанным путям и к неясной цели.
Других людей я отыскал в противоположном направлении, когда вопреки здравому смыслу с утра отправился из дому не в ненавистную мне гимназию, а на спасшую мне жизнь работу ученика в продовольственной лавке, и пошел не с сыном государственного чиновника по Райхенхаллерштрассе в центр города, а с сыном слесаря из соседнего дома, и, повернув на Рудольф-Библь-штрассе, мы пошли не через заросшие парки, мимо красивых особняков, в Высшую Школу Жизни крупной и мелкой буржуазии, а мимо приюта для слепых и дома призрения для глухонемых, через железнодорожные пути, садовые участки, мимо спортивных площадок возле Леннерской психиатрической больницы, в ту Высшую Школу Жизни других людей, людей свихнувшихся или причисленных к таковым, словом — в Шерцхаузерфельд, на самую жуткую окраину Зальцбурга, источник почти всех преступлений, всех судебных процессов, где в одном из подвалов держал продовольственную лавку господин Карл Подлаха, человек неуравновешенный, обидчивый, бывший житель Вены, который мечтал стать музыкантом, но так и застрял в своей продовольственной лавке. На службу меня приняли сразу. Господин Подлаха вышел в соседнюю комнату, где я его ждал, мельком оглядел меня и сказал, что, если я хочу, могу сразу приступить к работе, и он тут же открыл стенной шкаф, вынул оттуда один из своих рабочих халатов, сказал, что он, наверно, будет мне впору, и я накинул халат, хотя он, конечно, был мне не впору, но, сказал господин Подлаха, предварительно я могу его поносить, и несколько раз он повторил предварительно, потом подумал и вывел меня через лавку, где толпились покупатели, на улицу, в соседний дом, где находился склад. Тут я должен был до двенадцати часов все убрать, и мой хозяин и наставник, взяв метлу, сунул ее мне в руки. А в двенадцать часов он, Подлаха, обещал поговорить со мной обо всем остальном. Я остался в одиночестве, в темном складе, где, как и во всех складах, запах всякой снеди смешивался с запахом подвальной сырости, и у меня было время наедине обдумать все, что со мной произошло. Я совсем замучил служащую биржи труда и за час добился того, чего хотел: места ученика в Шерцхаузерфельде, чтобы, как я считал, приносить пользу людям, работая среди них. Сейчас я чувствовал, что избавился от величайшей бессмыслицы, придуманной людьми, — от гимназии. Вдруг я почувствовал: наконец-то моя жизнь снова стала полезной, я опять могу приносить пользу. Я избавился от кошмара. Я уже представлял себе, как я буду рассовывать покупателям в их сумки и муку, и сало, и сахар, и картошку, и крупу, и хлеб, — и я был счастлив. Да, я свернул с Райхенхаллерштрассе и замучил служащую биржи труда. Она предлагала мне много адресов, но долго не давала адреса в той, в другой стороне. А я хотел уйти именно в другую сторону. Я подмел склад, в двенадцать часов запер двери и пошел, как было то условлено, в лавку. Господин Подлаха познакомил меня с подручным (Гербертом) и с мальчиком-учеником (Карлом) и сказал, что обо мне и про меня ему знать ничего не надо, лишь бы я оформился на работу и приносил тут пользу. Вдруг он сам сказал это слово польза без всякого нажима, будто это слово было его любимым. А для меня оно было главным. Казалось, кончилась моя бесполезная жизнь, несчастная жизнь, страшное время. Передо мной тогда стоял выбор — две возможности, и мне поныне это ясно: либо покончить с собой, но на это у меня не хватало мужества, либо уйти из гимназии. И вдруг вышло так: я не покончил с собой, и вот я — уже ученик в лавке. И все пошло как надо: домашние отнеслись к этому либо равнодушно (моя мать, мой опекун), либо с огромным пониманием, с готовностью понять (мой дед). Все сразу привыкли к новому положению дел — никаких споров, никаких возражений. Да я уже давным — давно был предоставлен сам себе, и, до чего я был одинок, мне стало ясно только теперь. Схватить себя за горло и выброситься в окошко — или под ноги моим родным, — в любом случае воздействие было бы одно и то же. Я бросил в угол свой портфель и больше его не трогал. Мой дед сумел скрыть свое огорчение, теперь он уже мечтал, как я стану способным, дельным коммерсантом и в этой профессии (его слова) мой талант проявится еще ярче, чем в любой интеллектуальной области. Он винил в моих неудачах то, что я родился в такое жуткое, такое несчастливое время, был брошен в пропасть, выбраться откуда не было никаких человеческих возможностей. И вдруг для него, всю жизнь презиравшего торговый люд, ссылаясь при этом на свой многолетний опыт, слово «купец» стало почетным, а дело это — важным и значительным. Сам я не имел никакого представления о своем будущем, я не знал, кем стану, я вообще никем стать не собирался, я просто хотел приносить пользу. Вдруг, совершенно неожиданно, эта мечта стала моим прибежищем. Годами я ходил туда, где фабриковали ученых, годами был втиснут в машину, которая в меня вгоняла науку, оглушая, оглупляя, сводя с ума, и вот теперь я снова оказался среди людей, понятия не имевших об этой машине, не испоганенных ею, никогда не приходивших с ней в соприкосновение. И я полюбил все, что увидел, я ко всему относился всерьез. Бывали дни, когда сотни людей толпились в лавке, когда с восьми утра наши двери осаждали голодные и заморенные люди, словно крепость, где хранилась спасительная пища, бывали дни, когда на смену приходили одинокие старики пенсионеры и запойные пьяницы бабы. Кроме того, наш подвал, продуктовая лавка господина Подлахи, всегда был центром этого района, здесь не было ни одного места, где можно было бы отдохнуть, — ни гостиницы, ни кафе, ни ресторана, только унылые, отвратительные здания, словно нарочно построенные так, чтобы унизить живущих в них людей, потому что в таком жилье любой человек независимо от его характера был обречен на гибель, на медленное угасание; в этой мерзости, в этой унылой монотонности все живое в человеке независимо от его душевных качеств было обречено на медленное загнивание, на распад, на погибель. В подвал приходили женщины вовсе не за покупками, а просто так — они вдруг появлялись почти всегда в одно и то же время, немного растерянные, просто для того, чтобы переброситься несколькими словами, и как только они (спускаясь по бетонным ступенькам) появлялись в подвале, сразу было понятно, что пришли они сюда, лишь бы убежать из жуткого своего жилья, хоть на минутку успокоиться, отойти, ожить. Для многих обитателей этих трущоб наш подвал стал единственной и последней отдушиной и спасением. У многих заходить в подвал вошло в привычку, они приходили каждый день по нескольку раз не оттого, что сначала не хватило денег на покупку какой-нибудь мелочи, например лишней пачки масла, а только потому, что для них жизненно необходимой была эта передышка, эта возможность хоть на минутку убежать к нам, в подвал, из невыносимой, просто убийственной домашней обстановки. Они входили, робея и смущаясь, словно оправдываясь, что зашли сюда. Только теперь, с первых дней в новой для меня обстановке, я опять непосредственно близко столкнулся с другими людьми, такой непосредственной близости я был лишен многие годы, мой разум да и вся моя душа чуть не задохнулись под давлением школьной учебы, как под стеклянным колпаком, откуда выкачан воздух, да и всю жизнь вне школы, вне этого насилия, я годами воспринимал смутно, сквозь туман школьной зубрежки, и только теперь я снова увидал людей, непосредственно столкнулся с ними. Годами я существовал среди книг, этих тетрадей, в затхлом запахе высохшей и заплесневелой истории, сживаясь с ней настолько, будто сам уже стал историей. А теперь я жил не прошлым, а настоящим, со всеми его запахами и заторами. Я сам на это решился, сам открыл эту жизнь для себя. Теперь я ожил, а долгие годы был мертвецом. Все мои способности, все лучшие стороны моего характера выявились с первого же дня пребывания в нашем подвале, а ведь много лет подряд все было похоронено, засыпано, словно мусором, тем, что в меня пытались вложить самыми омерзительными средствами так называемого воспитания, а сейчас все ценное, что было во мне, высвободилось само собой в новом моем окружении, с одной стороны — благодаря моим сослуживцам в лавке, с другой — благодаря покупателям, другим людям, вернее, просто людям, приходившим за покупками, а главным образом благодаря тому, что я сразу заметил, какую громадную пользу мне приносят те несколько напряженные взаимоотношения между продавцами и покупателями, сложившиеся вокруг меня на работе, на моей, сразу полюбившейся мне работе. А так как я попал в лавку в тот день, когда отоваривали продовольственные карточки, то уже через несколько часов мне пришлось делать не только черную работу — подметать, убирать, наводить порядок, — но к вечеру, когда мои сослуживцы явно устали, меня, как бы на пробу, поставили за прилавок, и я, поработав продавцом, выдержал этот экзамен. С самого начала я хотел только одного — приносить пользу, и я стал полезным, окружающие признали, что я — человек полезный, тогда как до моего поступления на работу в этот подвал все видели, какой я бесполезный, и вот, решившись поступить учеником в лавку, я сразу сумел оборвать свое многолетнее бесполезное существование. Вот как я повзрослел, подумал я. И нынче я твердо знаю, что эти годы учения в подвале были самыми полезными годами моей жизни, так же как теперь я осознаю, что все предыдущие годы, возможно, были и не вполне бесполезными, но в те дни, когда я поступил в лавку, когда меня приняли в трудовую семью работников господина Подлахи, у меня было стопроцентное ощущение, что вся моя жизнь до этого была абсолютно бесполезной. Тут, в подвале, с самого начала каждая минута ценилась на вес золота, время стало огромной ценностью, а не бесконечной, бессмысленной тягомотиной, вереницей отупляющих, изматывающих нервы мыслей, тут все мое существование вдруг стало целесообразным, естественным, полезным. Все трудности, вставшие передо мной, я преодолел сразу, да, в сущности, никаких трудностей и не было в том, что мне вначале становилось поперек дороги, тут я был виноват сам, все зависело от меня, — это был крутой поворот от прежней жизни, полная противоположность почти во всем, и в первые же дни произошло беспощадное разоблачение всего, что было; оказалось, что пугавшие меня события и вправду были страшными, и для меня выявились все мои ошибки, все самообманы, но этого-то я и хотел. И если я раньше считал, что никакого будущего у меня нет, сейчас оно вдруг открылось передо мной, и каждая минута, казавшаяся мне до сих пор пустой и бесполезной, вдруг стала для меня радостью — чувством, давно вымершим во мне. Я не придумывал себе, как раньше, какое-то туманное будущее — я его обрел. Я вернулся к жизни. Я держал ее в своих руках, целиком и полностью. Надо мне было только круто свернуть с Райхенхаллерштрассе, думал я, и вместо того, чтобы ходить на уроки в гимназию, пойти учеником в подвал. В трущобах Шерцхаузерфельда я увидел людей, о которых только слышал, но никогда их не встречал, только от своего деда я знал, что есть на свете несчастные люди, погрязшие в нищете, потерявшие надежду, но вблизи я никогда их не видел. Городские власти шли на все, чтобы замалчивать то, что делалось в этих трущобах, но об этом писали газеты, а позже, когда я стал судебным репортером «Демократишес Фольксблатт», мне приходилось еженедельно сообщать о процессах, где обвиняемыми были жители Шерцхаузерфельда. Большинство из них мне были знакомы еще с тех дней, когда я работал в подвале, и уже тогда можно было предположить, что когда-нибудь они попадут под суд, и я всегда думал во время судебного разбирательства, что попали они под суд именно по тем обстоятельствам, которые мне самому были отлично знакомы еще с той поры, когда я работал в подвале. Но судьи не знали того, что знал я, да они и не давали себе труда по-настоящему вникнуть в судьбу человека, они разбирали любое дело по одному шаблону, считались только с бумажками, с так называемыми неопровержимыми уликами, и выносили приговор, не зная ни подсудимого, ни его окружения, ни его биографии, ни того общества, которое сделало человека преступником и отдало под суд, заклеймивший его навсегда этим именем. Судьи считались только с бумажками, со своими жестокими, бездушными, совершенно бесчувственными, бесчеловечными, беспощадными законами, которые помогали им изничтожить человека, попавшего под их суд. По крайней мере раз в день из-за скверного настроения судьи бывала исковеркана судьба обвиняемого, загублена вся его жизнь, и видеть это, понимать весь этот ужас было просто страшно. Но сейчас не время описывать судебные разбирательства, я только хочу добавить, что через много лет после того, как окончилась моя служба в подвале, я постоянно встречал имена многих тогдашних покупателей в судебных отчетах, да и теперь стоит мне развернуть газету, как сразу встречаются знакомые имена людей, которых я знал, еще работая в подвале, чьи судьбы складывались на моих глазах — подвальные судьбы, подвальная трущобная жизнь, — и я читаю об этих судьбах в судебных отчетах и сейчас, через тридцать лет после моей службы в подвале, вижу знакомые имена людей, попавших под суд, людей из трущоб, из моего подвала. Я знал, почему я заставил заведующую на бирже труда вынимать десятки карточек из ящичков, мне было нужно направление в противоположную сторону, эту фразу — в противоположную сторону — я повторял про себя все время, пока шел на биржу труда, а заведующая не понимала, почему я все время повторяю в противоположную сторону, а я все твердил ей: хочу в противоположную сторону, наверно, заведующая принимала меня за сумасшедшего, потому что я действительно без конца повторял в противоположную сторону, да и как ей было понять, раз она вообще обо мне не имела ни малейшего представления. В полном отчаянии и от меня, и от своей картотеки она предлагала мне всякие места учеников в лавках, но все эти места находились не в противоположном направлении, и мне приходилось отказываться от ее предложений, я не хотел просто работать в другом конце города — я хотел попасть в противоположный конец города, и ни на какие уступки я не шел, и заведующей приходилось без конца вытаскивать карточки из ящика, а мне — отказываться от всех адресов, потому что я решительно хотел пойти только в противоположный, а не просто в другой конец города. Заведующая отнеслась ко мне как нельзя лучше и, наверно, старалась выбрать для меня то, что ей казалось самым лучшим адресом; например, она считала, что лучше места ученика в центре, то есть в одном из самых больших, самых известных универмагов готового платья, мне не найти, и она просто не понимала, что меня интересовало не самое лучшее место, а самое окраинное, а ей, заведующей, просто хотелось пристроить меня как можно лучше, но мне-то ничуть не хотелось пристроиться как можно лучше, я ей так и твердил: хочу в противоположную сторону, но она никак не поддавалась и все время вытаскивала из своей картотеки так называемые хорошие адреса; как сейчас слышу ее голос, слышу, как она называет адреса, знакомые всему городу, самые известные, самые знаменитые адреса, но все эти адреса меня абсолютно не интересовали, мне хотелось попасть в такую лавку, куда каждый день приходят люди, очень много людей, я ей так и сказал, сразу, как только пришел, но никак не мог толком объяснить, почему я просился в другую сторону, я ей объяснял, что много лет ходил по Райхенхаллерштрассе в гимназию, а теперь хочу ходить в противоположную сторону, но при всем ее добродушии, при всей моей решительности мы больше получаса возились с картотекой, и она вытаскивала одну карточку за другой, называла адрес, а я отказывался, и отказывался я от этих адресов потому, что все адреса из ее картотеки были не тем адресом, который я искал, все эти отвергнутые мной адреса были не теми, а тогда в отличие от сегодняшнего дня на биржу труда в Зальцбурге поступали сотни требований на учеников из многих лавок, но среди них не было адресов с той, другой стороны, которые были нужны мне, адреса были отличные, лучше не выдумать, но все не с той стороны, пока в свой черед не попался адрес Карла Подлахи в Шерцхаузерфельде. Но именно этот адрес заведующая очень неохотно вытащила из картотеки, не так, как другие адреса, для нее об этом адресе и речи быть не могло, это я сразу увидал, и адрес Подлахи она прочитала с брезгливостью и брезгливо выговорила даже фамилию: Подлаха, с брезгливостью повторила точный адрес, брезгливо выговорила название: Шерцхаузерфельд. Для нее не было противней этого названия, она с трудом заставила себя выговорить его. Но об этом адресе для меня вообще и речи быть не может, явно сказала себе заведующая, по выражению ее лица ясно было видно, что она так считает, но именно этот-то адрес и был тем самым адресом, который я спрашивал, потому что господин Подлаха жил именно в противоположном направлении, но заведующая явно не поверила, когда я сказал, что название Шерцхаузерфельд, от которого она невольно, шарахалась, для меня таило неодолимую привлекательность, и я нарочно повторял название: Шерцхаузерфельд, чтобы видеть, как она болезненно реагирует на него, она все время вглядывалась в мое лицо, слушала, как я повторял Шерцхаузерфельд, и приходила в ужас оттого, что я запомнил именно этот адрес. Она стала вынимать еще какие-то карточки из картотеки, но я сказал, что меня этот адрес вполне устраивает, но, однако, если меня там не возьмут, я вернусь к ней, и, может быть, тогда она подберет для меня другой адрес, но в том же противоположном направлении, как и адрес господина Подлахи, на той же окраине. С одной стороны, заведующая была довольна, что нашла для меня то, что я просил, но, с другой стороны, пришла в ужас от моего выбора, когда ей стало ясно, что именно я задумал. Она старалась выбрать для меня из картотеки лучшие, самые лучшие адреса, чтобы я получил возможность продвигаться по работе, а я схватил самый плохой, самый что ни на есть скверный адрес. И не то чтобы она меня сразу стала предостерегать не ходить в эти трущобы, просто ей было ненавистно само слово Шерцхаузерфельд, и я сразу заметил, что и фамилия Подлаха была ей глубоко противна, и всю ту окраину, которую я называл противоположная сторона, она глубоко презирала, и с той минуты, как я собрался пойти в ту другую сторону, то есть в Шерцхаузерфельд, пренебрегая всеми ее доброжелательными предложениями, когда она увидела, что я всерьез принял адрес Подлахи, она и ко мне стала относиться с презрением, потому что она абсолютно не могла понять, как молодой, явно интеллигентный человек, еще часа три назад ученик гимназии, в каком-то, по ее мнению, лихорадочном, ненормальном, нездоровом состоянии мог отказаться от самых лучших, самых, по ее мнению, великолепных, престижных предложений и выбрать самое что ни на есть скверное, гнусное, мерзкое, просто чудовищное место, и для нее единственным выходом, как мне кажется, стало вообще не принимать меня всерьез. Бредни, наверно, подумала она, когда я от нее ушел, болезни роста, гимназические выверты. Но я к ней так и не вернулся, и, наверно, это заставило ее призадуматься. Обычные выдумки сбитого с толку мальчишки-гимназиста, наверно, подумала она, которые, безусловно, скоро пройдут, а впрочем, она, по всей вероятности, сразу меня забыла. Но со школьной рутиной, машиной, механизмом я вообще никакой связи не чувствовал, как и с людьми, связанными с этим школьным механизмом, тогда как со всем, связанным с лавкой в подвале, я сразу почувствовал теснейшую связь, все, что было связано с этим подвалом, все, что там происходило, меня сразу притянуло, захватило, очаровало, и не только очаровало — я ощутил свою принадлежность ко всей этой жизни, почувствовал себя неотъемлемой частью всего, что было связано с этим подвалом, с этими людьми, тогда как я ни разу не чувствовал связи со школьной жизнью, с окружавшими меня там людьми, и даже Райхенхаллерштрассе, как я сейчас понял, никогда не была моей улицей, как та сторона никогда не была моей стороной, моим направлением, а моей улицей, моей стороной стала улица Рудольф-Библь-штрассе, и я шел своим путем, проходя по этой улице мимо Леннерского почтамта, мимо болгарских огородов, мимо гимнастических снарядов на спортивной площадке, в трущобы, к моим людям, тогда как все в той, другой стороне никогда не было моим, и я могу утверждать, что дорога в гимназию по Райхенхаллерштрассе с беспощадным упорством и с почти непредставимой, жестокой настойчивостью уводила меня от самого себя в ежедневную пытку, от которой могла избавить только внезапная смерть. А дорога по Рудольф-Библь-штрассе в Шерцхаузерфельд была для меня возвратом к себе, и, проходя по этой улице, к этим трущобам, в подвал, я думал про себя: вот я иду к себе, и с каждым днем я все больше и больше находил себя, в то время как, проходя по той, Райхенхаллерштрассе, всегда неотвязно думал, что ухожу от себя, теряю себя, совсем теряю, оттого что иду туда не по своей охоте, потому что меня вынудили, заставили идти по этому пути, против воли, те, кто управлял мной, управлял всем моим достоянием, моим духовным богатством и телесным моим благосостоянием, управлял всегда плохо, неумело, выбрав для меня этот страшный, смертельный путь, назначив мне этот маршрут, не слушая моих возражений, но вот я вдруг круто свернул в другую сторону и пошел мимо больницы по Гасверкгассе на биржу труда, и, уже свернув на эту дорогу, я в ту же минуту понял, что теперь я иду по верному пути. Много лет подряд, просыпаясь по утрам, я думал, что мне надо сойти с пути, уготованному мне моими воспитателями и опекунами, но сил на это у меня не было, и много лет подряд я против воли в страшном умственном и физическом напряжении шел по этой дороге, пока вдруг не собрался с силами, не остановился и круто не повернул обратно, в другую сторону, сам себе не веря, что на это решился, потому что такой крутой поворот удается сделать только с величайшим напряжением всех душевных и умственных сил, именно в тот момент, когда надо либо круто повернуть в обратную сторону, либо покончить с собой, а такой человек, каким я тогда был, представляет для самого себя наибольшее препятствие, смертельное препятствие, которое нужно преодолеть. И в такой спасительный для человека миг надо сразу пойти наперекор всему или не жить, и я нашел в себе силы пойти наперекор и вопреки всему, пошел на биржу труда на Гасверкгассе. И в то время как учебная машина в городе снова требовала бессмысленных жертв, я сбежал от нее, круто свернув с Райхенхаллерштрассе в ту самую минуту, когда я вдруг воспротивился, больше не захотел быть одной из тысячи тысяч, из миллионов жертв этой учебной машины, и я круто свернул, бросил сына адвоката — пусть один идет этой дорогой. В это утро я слишком ясно понял, к чему приведет мое безволие, если я ему снова поддамся; но я не хотел бросаться в пропасть с Монашьей горы, я хотел жить — вот почему я в то утро круто повернул в другую сторону и побежал со всех ног, все быстрее и быстрее, оставляя за собой все, что стало для меня в последние годы убийственно привычным, оставил окончательно и бесповоротно решительно все, и я удрал в смертельном страхе на биржу труда в смертельном страхе, перевернув вверх ногами за эти несколько минут все, что было во мне, все, чем я жил, промчался по Мюльнерштрассе и Леннерштрассе и в смертельном страхе влетел в здание биржи труда. Я сказал себе: сейчас или никогда, я твердо знал — все должно решиться сию минуту. Я уже вытерпел столько ударов, что сейчас никак нельзя было сдаваться. Надо непременно пройти через это жуткое, гнусное здание через биржу труда, я боялся его, там стояла такая вонь, нищенские запахи шли от всякой бедноты, но мне необходимо было пройти через все это, думал я, поднимаясь по лестнице, необходимо пройти через это отвратительное помещение, где больше чем где бы то ни было чувствовалась убийственная бесчеловечность, — тогда я буду спасен. И я не уйду из этого страшного дома, пока мне не дадут спасительный адрес лавки, где требуется ученик, вот тогда я смогу выжить, думал я, входя в комнату заведующей, распределявшей направления в магазины. Я не имел ни малейшего представления, в каком торговом заведении мне хотелось бы получить место ученика, но чем дольше я стоял перед заведующей, тем яснее мне становилось, что мне нужно место ученика — я искал именно место ученика, а не просто службу, такое место, где я мог бы обслуживать как можно больше покупателей, встречаться со многими людьми, приносить пользу наибольшему количеству людей, и чем дольше заведующая рылась в своей картотеке, тем яснее мне становилось, что я хочу поступить в продовольственный магазин. Те специальности, при которых человек, как в большинстве профессий, почти все время предоставлен сам себе, мне не подходили, потому что я хотел быть с людьми, и чтобы их по возможности было побольше, и чтобы по возможности жизнь вокруг меня кипела, а я приносил бы им огромную, неизмеримо большую пользу. Но очень многие люди отличаются главным образом тем, что им трудно понять других, и в результате они вообще ничего не понимают. Эта заведующая на бирже труда никак не могла понять меня, но наконец что-то сообразила, и, когда я ей уже надоел до смерти, она вдруг вытащила из картотеки адрес господина Подлахи. Как видно, она считала меня сумасшедшим и совершенно не принимала всерьез, и теперь, когда я ей уже надоел, она хотела от меня избавиться, и, очевидно, чтобы избавиться от меня окончательно, она и выудила из картотеки адрес господина Подлахи. Возможно, ей показалось, будто я нездоров, в бреду и что через несколько часов все мои заскоки пройдут сами собой. Впрочем, неважно, что она обо мне думала, но я настойчиво добивался от нее нужного мне адреса, который сулил бы мне то, чего я хотел, и тогда я мог бы с ней проститься. Конечно, она усомнилась в серьезности моих намерений, да возможно, что ей вообще показалось, будто я не вполне нормален. В переходном возрасте у человека часто бывают всякие заскоки, вполне возможен и такой заскок, когда юный гимназист вдруг бежит на биржу труда и спрашивает адрес какой-нибудь продуктовой лавки, потому что думает — этот адрес принесет ему радость, поможет хоть на час-другой избавиться от невыносимой ежедневной скуки. Но мое решение было непоколебимым. Конечно, я, быть может, в эту минуту, сверзившись, как канатоходец с каната, с высот осточертевшей мне школьной премудрости, свалился прямо в неоспоримую действительность — взял место ученика в продуктовой лавке. Я еще не знал, что и кто кроется за адресом Подлахи, в трущобах Шерцхаузерфельда, и, наскоро простившись с заведующей, я пошел, вернее, побежал по Гасверкгассе, прямо в Шерцхаузерфельд, до сих пор я знал о нем только понаслышке, как о самом жутком районе Зальцбурга, но как раз в эту жуть меня и тянуло неудержимо, и я со всех ног бежал туда и быстро нашел адрес, и вот я уже вхожу в подвал, и представляюсь, и вдруг оказываюсь в тесном помещении за лавкой и сижу у письменного стола самого Подлахи. А в гимназии теперь гимназисты сидят и сидят, думаю я; и мне все больше нравится тут, в подвале господина Подлахи. Вот тут, в подвале, может быть, и начнется моя новая жизнь, мое будущее, и чем больше я думал о том, что останусь работать тут, в подвале, тем яснее я понимал, что принял правильное решение. В одно мгновение я вышел из общества, к которому до сих пор принадлежал, и вошел в подвал господина Подлахи. И вот я уже сижу тут и жду окончательного решения этого невысокого полноватого человека, не то чтобы особенно приветливого, но и неприветливым его не назовешь, и от него я жду, чтобы он спас мне жизнь. Какое же впечатление я произвел с первой минуты на него? Я слышу, что его коротко называют «шеф». Сквозь слегка приотворенную дверь я слышу его голос — мягкий и вместе с тем внушающий доверие. И за те пятнадцать минут, что я просидел в одиночестве, во мне окончательно окрепло желание стать учеником господина Подлахи, который показался мне очень интеллигентным и совсем не заурядным человеком. Если в гимназии любой контакт представлял для меня непреодолимые трудности, почти во всех случаях непроходимый тупик, все равно с кем — с моими соучениками, с преподавателями, — всегда между мной и ими возникала не только отчужденность, но она всегда переходила в неприязненное, более того — во враждебное отношение ко мне, и я все больше и больше попадал в безвыходность, в полнейшую изолированность от всех, да и дома, с родными, мне тоже всю жизнь стоило невероятных усилий преодолевать грозивший мне полный отрыв от семьи, тогда как тут, в подвале, вообще никакие проблемы не возникали, наоборот, меня просто изумляла та простота, с какой у меня без всяких затруднений наладились отношения и с моими сослуживцами, и с покупателями — с ними я с первого же дня был в самых лучших взаимоотношениях, в самом полном взаимопонимании. Ни малейших затруднений в разговорах, в общении с жителями шерцхаузерфельдской окраины я не испытывал. И вскоре все окружение, где шла моя жизнь, моя работа, стало мне родным. Постепенно я ближе познакомился почти со всеми здешними жителями, и, конечно, прежде всего с женами фабричных рабочих, шахтеров, железнодорожников, разнорабочих и с их детьми. Сначала я попадал к ним, в их квартиры, потому что помогал носить слишком тяжелые для них покупки. Я узнал, как живут люди в Шерцхаузерфельде, таская полные сумки с продуктами, а иногда и волоча пятидесятикилограммовые мешки с картошкой в разные кварталы, и, пока мы шли и беседовали, я многое наблюдал. Я познакомился и с женщинами, приходившими к нам в подвал с детьми, видел их мужей, ждавших дома, где оставались грудные младенцы и старики, и вскоре дома каждого квартала, давно знакомые с виду, стали мне знакомы изнутри. И я научился говорить на языке Шерцхаузерфельда — на совершенно особенном диалекте, какого я ни дома, ни в городе вообще никогда не слыхал. Да, язык Шерцхаузерфельда коренным образом отличался от языка остального города, тут люди говорили выразительней, отчетливей, чем там, и скоро я научился разговаривать со здешними жителями на их языке, потому что поневоле стал думать, как они. Здесь все жили в ожидании чего-то, и все мысли здешних обитателей сводились к этому ожиданию. Шерцхаузерфельд был вечным, несмываемым позорным пятном нашего города, и отцы города отлично знали об этом позорном пятне: название этих трущоб, этого позорного пятна, то и дело появлялось в газетах — то в судебных отчетах, то в утешительных обещаниях правительства земли. И обитатели этого позорного пятна на теле Зальцбурга сознавали, что они все скопом и есть это позорное пятно. И они все больше и больше становились позором для города, здесь сосредоточилось все, что город пытался замолчать или затушевать, все, от чего бежит нормальный человек, когда он может убежать, здесь скопилась вся нечисть Зальцбурга, и до сегодняшнего дня эти шерцхаузерфельдские трущобы остались позорным пятном, которого стыдится весь город Зальцбург, когда ему напоминают об этом сплаве нищеты, сплаве голода, грязи и преступлений. Но здешние жители давно привыкли к своим трущобам, и, хоть они вечно находились в ожидании перемен, в сущности, они уже давно ничего не ждали, их бросили, забыли, их постоянно пытаются утихомирить, о них часто забывают, о них говорят только перед выборами, поминают и «позорное пятно» Шерцхаузерфельда, и «шерцхаузерфельдские трущобы», но после выборов они все это регулярно забывают и только перед новыми выборами регулярно вспоминают, а у жителей этих трущоб, годами чувствующих эту свою отверженность, этот убийственный гнет презрения всех зальцбургских граждан, у которых от одного названия «Щерцхаузерфельд» начинаются рези в животе, — у этих жителей появилась собственная гордость, они гордились своей судьбой, своим происхождением и, если уж на то пошло, своими грязными трущобами, которые (как писал «Зальцбургский листок») являлись «несмываемым позорным пятном города Зальцбурга». Жить в этих трущобах — значило жить в самом грязном, самом позорном районе города, здесь, как считалось в городе, жили изгои, и упоминать о Шерцхаузерфельде — значило называть только преступный мир, мир воров, пьяниц, точнее, мир пьяных уголовников. Весь город обходил эти трущобы, и жить там было смертным приговором для человека. Об этом районе всегда говорилось как о гетто, где жили преступники, это был тот район, откуда в остальную часть города просачивались все преступления, и если где-то в городе появлялся житель Шерцхаузерфельда, значит, в городе появлялся преступник. Об этом и говорили откровенно, без обиняков, и жители из Шерцхаузерфельда всегда чурались чужих, потому что после того, как их годами осуждали, презирали, они и сами поверили, что их правильно называют шайкой преступников, и ничуть не удивительно, что уже издавна, лет сорок или пятьдесят тому назад, эти трущобы стали постоянным поставщиком материала для зальцбургских судов, неистощимым рассадником обитателей исправительных заведений и тюрем. И полиция, и суды — все, кроме городских властей, годами неослабно занимались этой окраиной, а отдел так называемого социального обеспечения ссылался на этот район, только чтобы замять, затушевать, скрыть свое беспредельное бессилие. И до сих пор — а ведь прошло уже больше тридцати лет после моей работы в Шерцхаузерфельде, — стоит мне развернуть зальцбургскую газету, как я вижу, что почти все судебные процессы связаны с этой окраиной, как и все убийства и потасовки, часто со смертельным исходом. И сейчас, через тридцать лет, мне кажется, что условия жизни там только ухудшились. Нынче там выстроили высотные дома, целые жилые кварталы — плод наших бездарных и бездушных времен, лишенных таланта, враждебных всякому таланту, — и дома стоят там, где раньше, тридцать лет назад, цвели луга; я сам проходил по этим широким лугам на работу, мимо домов призрения слепых и глухонемых, мимо Леннерской почты, по лугу, по нешироким тропкам, где все пахло природой, а теперь в этих местах уже не пахнет ни травой, ни землей, ни речными запрудами и отовсюду несет одуряющей, бесчеловечной вонью выхлопных газов. Прежде как будто город хотел отгородиться от шерцхаузерфельдских трущоб, между ними полосой проходили луга и поля, только кое-где стояли грубо сколоченные свинарники или маленькие или довольно большие лагеря беженцев, хибарки полоумных нищих и побирушек, халупы шлюх и пьяниц, которых когда-то выхаркал город. А теперь город на приличном расстоянии понастроил на лугах дешевое жилье, убийственное для этих людей, жилье для граждан, выкинутых городом, для самых нищих, бесприютных, пропащих и, разумеется, для самых болезненных, самых отчаявшихся — словом, для человеческих отбросов, и построил это жилье на таком расстоянии, чтобы никогда с тамошними жителями не сталкиваться, и тот, кто знать о них не знал и не хотел знать, так за всю жизнь и не имел никакого представления об этой окраине, напоминавшей штрафные лагеря не только потому, что все кварталы были крупно пронумерованы. Высокие ступеньки вели в узкий коридор длинного одноэтажного дома, и там с обеих сторон шли жилые помещения, которые никак нельзя было назвать квартирами; в каждой было по одной или по две комнатушки, многодетные семьи жили в двух комнатах, воду брали в общем коридоре, на весь коридор была одна общая уборная, стены выложены гераклитовыми плитками и покрыты дешевой штукатуркой. Только трехэтажные дома были кирпичными, и в них жили, так сказать, привилегированные пролетарии, и наша продуктовая лавка тоже помещалась в подвале такого трехэтажного дома. Каждый день в этих домах происходили семейные скандалы, каждый день заворачивала к какому-нибудь дому полицейская машина, подъезжала карета «скорой помощи», чтобы забрать полуживого, избитого или израненного человека, или катафалк за каким-нибудь несчастным, то ли умершим в своей жалкой постели, то ли кем-то приконченным. Почти весь день по всем улицам — единственным безымянным улицам Зальцбурга — носились ребята, они орали, шумели, благо на улицах было достаточно места, где можно было орать и шуметь, своими криками и воплями они п


























