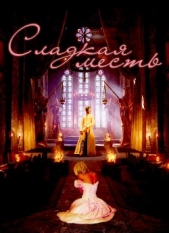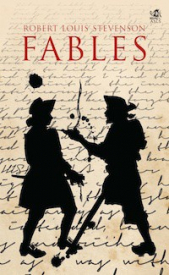Bambini di Praga 1947

Bambini di Praga 1947 читать книгу онлайн
Всемирно признанный классик чешской литературы XX века Богумил Грабал стал печататься лишь в 1960-е годы, хотя еще в 59-м был запрещен к изданию сборник его рассказов «Жаворонок на нитке» о принудительном перевоспитании несознательных членов общества на стройке социализма. Российскому читателю этот этап в творчестве писателя был до сих пор известен мало; между тем в нем берет начало многое из того, что получило развитие в таких зрелых произведениях Грабала, как романы «Я обслуживал английского короля» и «Слишком шумное одиночество».
Предлагаемая книга включает повесть и рассказы из трех ранних сборников Грабала. Это «Жемчужина на дне» (1963) и «Пабители» (1964) с неологизмом в заглавии, которым здесь автор впервые обозначил частый затем в его сочинениях тип «досужих философов», выдумщиков и чудаков, а также «Объявление о продаже дома, в котором я уже не хочу жить» (1965).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Предположим. Ну, а где бы она тут спала? — Он почесался.
— Да там же, где я когда-то. Будет спать в ящике от тахты или в комоде. И потом, Маргитке-то уже почти три года, она и за сигаретами сбегать сможет, и за пивом, и тапочки тебе будет приносить. Какой ширины тут окна?
— Метр двадцать.
Она опять, резко крутанувшись, улеглась на спину и сказала радостно:
— Вот повезло-то! Ровно такой ширины, как мои занавески! Здорово же они комнату украсят. И вот еще что… — Она села, свесив ноги с кровати, и задрала фартук. — Здесь пятьдесят крон. На первое время нам хватит. — И из-под резинки своих белых трусиков она вынула сложенную в восемь раз купюру и положила ее на столик, освещенный зеленым радиоглазком.
— Сколько тебе лет? — спросил он.
— Восемнадцать. Я еще десять лет красивой буду. А тебе сколько?
— Двадцать три.
— Это самый лучший возраст. Ты у меня еще пятнадцать лет красавчиком останешься. Но если бы я пошла танцевать с другим, ты бы меня отделал?
— Отделал. Да еще как!
— Поклянись!
— Клянусь!
— Ну вот, теперь я тебе верю. Ты увидишь, на что способна цыганка, если она кого любит. Тебе все будут завидовать. Ты мой мужчина, а значит, мой хозяин, теперь ты для меня мое всё.
Голос ее звучал серьезно, и она кивала собственным словам. Гастон оглядывал комнатку, которая ему самому казалась тусклой и серой. Вспоминая о комнате с венецианской люстрой и газовым фонарем перед окном, он хотел только одного: побыстрее собрать свои вещи и навсегда убраться отсюда, чтобы поселиться в домике, который хотя и грозит вот-вот обрушиться, но зато может похвастаться потолком, сквозь который видны звезды, и тем, что по вечерам там легко читать газету при свете уличного фонаря.
— Вот только что обо всем этом скажет моя мама? — спросил он.
— Предоставь это мне. Я скажу ей: «Пани, я тоже человек». Но что если твоя мама скажет: «На цыганке ты женишься только через мой труп!» Что тогда?
— Я бы ей ответил: «Мама, ложись, и я через тебя переступлю».
Она подставила ему губы.
— А теперь по любви… — Вот какие слова она сказала.
Потом он расстегивал одну английскую булавку за другой, и руки у него дрожали, когда два эти расшпиленных фартука упали на пол, точно облачение священника…
А за их спинами лился из радиоприемника джазовый напев, три негритянки пели глубокими голосами… «О Джонни!»… три негритянки с грудными голосами, которые словно стояли на лесенке в глубоком гулком колодце, и из горла каждой рвалась на волю песня о том самом счастье несчастной счастливой любви… «О Johny, my darling…»
3
В зарослях перед небольшим замком запела первая птица. Потом к ней присоединились другие, и утренний воздух наполнился птичьим пением. Гастон под руку с цыганкой остановился перед витриной с кадрами из фильма. На афише сжимал шпагу Жерар Филип в распахнутой на груди рубашке.
— Вот бы денек побыть Фанфаном, всего один денечек! — поделился сокровенным Гастон.
— Этим, что ли? — показала она на картинку.
— Никакой это не «этот, что ли», это Жерар, он играет Фанфан-Тюльпана.
— И что с того? Слушай, я тебе вот что скажу. Ты помощник водопроводчика, да? И когда у людей сортир засорится, они кого зовут? Тебя. О тебе и обо мне — вот о ком надо кино снимать. Ты всегда и свой кусок хлеба заработаешь, и людям поможешь, так для чего же тебе прыгать по крышам с саблей в руке? Вот придем на кирпичный завод, сам увидишь. Да у нас каждый второй цыган — Фанфан-Тюльпан, только он кирпичи делает. А из этих кирпичей потом дома строят.
— Но Жерар — он же такой красивый!
— Красивый, красивый… — Цыганка резко потянула за уголок афиши и сорвала ее. — Когда у нас будет свадьба, я позову своих двоюродных братьев, которые уголь разгружают. Так ты разом четырех Жераров увидишь. А еще мой дедушка придет — в синем сюртуке и с бамбуковой палкой, — серьезным тоном сулила она.
Потом они шли мимо статуи Подлипного, который пальцем словно бы подзывал к ноге убежавших собак.
— Ты такой же красивый, как мой папа Деметр, который носил меня на руках и при этом курил, а мама шла сзади, и папа иногда давал ей сигарету, чтобы она тоже сделала пару затяжек. Он работал на угольном складе, и люди всегда говорили, что у него вид начальника.
Цыганка без устали болтала, и когда они шли мимо притока Влтавы, Гастон впервые понял, что женской руке под силу впрыскивать доверие прямо в мужское сердце. Уже рассветало, несколько рыбаков горбилось над своими удочками, и их спины вторили изгибу удилищ. Выли в своих вольерах овчарки, и кусты дрожали от птичьего пения.
— Короче, ты помощник водопроводчика, и главнее тебя нет, — заключила наконец цыганка.
— А знаешь, — пожаловался Гастон, — этот мой новый мастер — ну прямо как собака! Говорит, чтобы я ему тыкал. Да как же я ему тыкать буду, если он меня на двадцать лет старше?! Так представляешь, я ему, значит, не тыкаю, а он показывает меня всей пивной и кричит: «Нет, вы только посмотрите на этого осла!»
— Вот тебе и на! — сказала цыганка.
— Точно! — засмеялся Гастон. — Понимаешь, я знаю, что мастер прав, когда говорит мне: «Слушай, если мы на работе друг с другом на ты, то я во время этого интимного тыканья могу выдать тебе всякие секреты и хитрости, ну, типа как за что браться, но если ты так вопрос ставишь…» А я смотрю на него и отвечаю: «Не сердитесь, мастер, но у вас же уже дети большие, и потом, мне же за вами в работе не угнаться, вы вон какой дока, куда мне со свиным-то рылом…» А мастер тогда опять показывает на меня пальцем и кричит на всю пивную: «Ага, Гастон, так ты, значит, брезгуешь мною, своим мастером, да?! Нет, люди, вы видели прежде такого осла?!» Вот что кричал он мне, а потом еще проорал: «Нет, Гастон, ты должен меня превзойти, ты должен просто глаз с меня не спускать, чтобы все видеть и стать ученее меня! Знай, Гастон, что когда жеребенок сосет кобылу, он ее обязательно лягает. В общем, между нами все кончено, не хочешь мне тыкать, значит, получишь не работу, а войну, нет, не войну, а концлагерь! И само собой, Гастон, с этой минуты никакого общего портфеля!» Мастер прокричал все это, а потом перевернул портфель и вытряс из него мою кастрюльку с обедом и ложкой прямо на пол. А когда я за этой своей кастрюлькой наклонился, так он ее еще и ногой наподдал.
— Так тебя Гастоном зовут? Гастон, Гастон! Знаешь, что я тебе скажу, Гастон? Твое имя лучше, чем Фанфан. Но ответь мне, Гастон, почему бы тебе не говорить мастеру «ты»? — спросила цыганка, когда они вошли на Тройский мост. Там они остановились, и она принялась поглаживать шершавый парапет.
— Попробуй, он еще теплый от вчерашнего солнца. Так почему бы тебе не сказать мастеру «ты»?
Гастон перегнулся через перила, обнял цыганку и прошептал:
— Потому что я робкий.
И показал пальцем вниз.
Там на песчаной косе лежал на матрасе обнаженный цыган-исполин, он лежал навзничь, и весь его открытый взорам торс покрывала татуировка. Одну руку он закинул за голову, и бицепс на ней был такой, что казалось, будто под кожей спрятана подушка. Два его уса походили на конские хвосты. Свободной рукой этот великан курил, глядел в синеющее небо на последнюю звезду и курил. Рядом с ним спала кудрявая головка, уткнувшая лицо в подушку. А из-под мостовой опоры торчала ось повозки с холщовым верхом и круп гнедого коня, мотавшего туда-сюда хвостом.
— Наши, — с гордостью сказала цыганка. — Издалека приехали. Тоже небось будут тут работу искать, как мы год назад.
— А чего это он коня под мост загнал, а сам лежит в росе?
— Время надо, чтобы привыкнуть. Мы тоже, если погода хорошая, любим на улице спать. В доме дышать трудно… А мой папа Деметр тоже был весь в наколках, и по воскресеньям мы забирались к нему в кровать и обводили пальцами рисунки, как в книжке с картинками, а он смеялся, потому что боялся щекотки.
— Как хорошо, — сказал Гастон. — Как хорошо, что есть на свете такие люди.