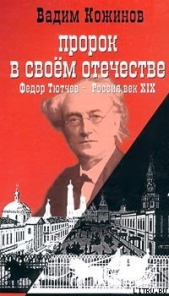Псалом

Псалом читать книгу онлайн
Фридрих Горенштейн эмигрировал в конце 70-х, после выпуска своевольного «Метрополя», где была опубликована одна из его повестей — самый крупный, кстати, текст в альманахе. Вот уже два десятилетия он живет на Западе, но его тексты насыщены самыми актуальными — потому что непреходящими — проблемами нашей общей российской действительности. Взгляд писателя на эту проблематику не узко социален, а метафизичен — он пишет совсем иначе, чем «шестидесятники». Кажется иногда, что его свобода — это свобода дыхания в разреженном пространстве, там, где не всякому хватит воздуха. Или смелости: прямо называть и обсуждать вещи, о которых говорить трудно — или вообще не принято. Табу. Табу — о евреях. Дважды табу — еврей о России. Трижды — еврей, о России, о православии. Горенштейн позволил себе нарушить все три табу, за что был неоднократно обвиняем и в русофобии, и в кощунстве, и чуть ли не в антисемитизме.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Гут, гут, — говорит он, — тебя надо учить немецкий язык… Я есть учитель…
Немец этот на следующее утро не уехал, и мать была рада этому. Прожил он у матери с Аннушкой и Митей почти неделю, и мать привязалась к нему, и Аннушка привязалась, только Митя держался настороженно. Немца этого звали Ганс, и от него впервые за многие месяцы перепадало то кусочек хлеба, то сала, то немного горохового концентрата. Немец этот никогда не плевал и не сморкался на пол, ел аккуратно. Как поест, достает из кармана катушку ниток, оторвет нитку и этой ниткой начинает зубы чистить от остатка мяса и гороха. Почистит, рыгнет раз, другой и зовет Аннушку — учить немецкому языку. Аннушка быстро усвоила многие слова и научилась считать — айн, цвай, драй.
— Брот, — говорил немец, — хлеб… Анна мит гроссфатер гейен шпацирен… Анна с дедушкой идут гулять. — Он заметил шестиконечную звезду, намалеванную на лбу Христа, и надпись «Юдише швайн». — Юдише швайн, — сказал он и засмеялся, — еврейская свинья.
— Юдише швайн, — бойко повторила Аннушка, — Анна мит гроссфатер гейн шпацирен… Айн, цвай, драй…
Однако к концу недели стал Ганс печален и однажды утром застегнул шинель, взял автомат, надел каску и стал обыкновенным немцем, так что Аннушка даже его испугалась.
— Война, война, — говорит он печально матери, — Ржев плохо, Кельн хорошо. — И он вздохнул. Тут он заметил, что Аннушка смотрит на него с испугом, точно это не добрый, веселый дядя Ганс, который кормил ее салом и учил говорить по-немецки, а обычный немец, который ее гнал и пинал. Тогда Ганс улыбнулся, подмигнул ей, показал пальцем на шестико-нечную звезду, намалеванную у Христа среди лба, и надпись углем поперек Христова лица. — Юдише швайн, — сказал он.
— Юдише швайн, — повторила Аннушка, — еврейская свинья. Анна мит гроссфатер шпацирен… Хаус — дом, фогель — птица, каце — кошка, хунд — собака.
— Гут, гут, — засмеялся Ганс, еще раз погладил Аннушку по голове, поклонился матери и ушел, поскольку с улицы его уже звали и над ним подшучивали.
К вечеру на постой пришли немцы, и среди них был один, похожий на Ганса. Мать шепнула Аннушке, чтоб та поговорила в немцем на их языке, которому ее обучил Ганс, поскольку прошлую неделю, покуда жил Ганс, они чувствовали себя под защитой и кое-что из немецкой еды им перепадало.
— Юдише швайн, — сказала Аннушка. — Анна мит гроссфатер гейн шпацирен… Хаус — дом, фогель — птица…
Немец засмеялся и так же, как и Ганс, сказал:
— Гут, гут…
Сразу же мать, чтоб еще больше завоевать его расположение, принесла ему в миске теплой воды умыться и чистое полотенце утереться. Немец умылся, потом утерся, потом посмотрел на мать и вдруг схватил ее за юбку ниже живота. Мать испуганно взвизгнула раз, затем еще раз, поскольку Митя ударил немца головой в бок так, что тот покачнулся. И Аннушка сильно испугалась, поскольку она знала, как бьют немцы. Однако, прежде чем немец ударил Митю, мать сама ударила Митю, правда, не в голову, куда целился немец, а по заднице. Она била Митю и при этом отгораживала его спиной от разозлившегося немца. И потому немец не ударил Митю, лишь выгнал их на улицу, как делали до дяди Ганса другие немцы.
Пришли они опять к доброй старушке, но не спали, боялись, что придут за Митей. Утром мать говорит:
— Дети, будьте здесь, а я пойду к нашему дому, подожду, пока немцы уйдут, и возьму что можно из вещей… Пойдем в деревню Агарково, там у меня двоюродная сестра, может, пристроимся.
Пошла мать к дому, помолилась Богу, чтоб немцы ушли, поскольку как не стало советской власти, не к кому стало обращаться с просьбами о помощи, кроме как к Богу. И исполнилась просьба, вышли немцы, сели в грузовик, поехали. Мать сразу в комнату. Там, конечно, побитое все, нахламлено, намочено, но среди койки чистое полотенце, которое мать немцу подала, так и лежит. Схватила мать это чистое полотенце, а оно тяжелое. Куча крепкого здорового арийского дерьма в нем, по которому, наряду с измерениями черепа, можно арийскую расу определить. Со славянским, а тем более с еврейским не спутаешь. Однако сейчас немец свое немецкое дерьмо завернул в русское полотенце не ради анализа на чистоту расы, а ради немецкого свиномясного юмора, полнокровного юмора, который отличается, по его мнению, от еврейской курино-туберкулезиой иронии. Только самые способные из славян могут ощутить немецкий дух. Мать Аннушки, тоже Аннушка, не принадлежала к лучшим элементам своей расы, не чувствовала себя арийкой и в отличие от одного известного русского литератора XIX века не стремилась к арийскому единству от Урала до Рейна. Она жила своими низменными интересами и сейчас схватила из вещей что под руку попало…
Вскоре она с Аннушкой и Митей уже тащилась заснеженным полем в деревню Агарково. Не шли, а тащились, поскольку несли вещи. Но сперва они пришли не в деревню Агарково, а опять в деревню Клешнево, и опять им никто здесь рад не был. Пустили переночевать, а накормить не накормили, у самих ничего нет. Утром пошли дальше и пришли в деревню Григорьевну. Здесь выпросила мать немного мерзлой отварной картошки. В избу не пустили, поскольку боялись тифозных, а картошку вынесли во двор в газете. К вечеру только следующего дня пришли в деревню Агарково. Деревня Агарково маленькая, домов десять, не более, зато тихо здесь, немцы лишь раз были, и то проездом.
Двоюродная сестра матери хоть и не очень рада была, но пустила и накормила. Начала Аннушка с матерью и Митей жить в деревне Агарково. Прожили зиму, прожили весну, а летом, уже август был, освободили деревню Агарково советские войска. То-то радости было. Деревня Агарково маленькая, и в каждую избу битком набилось советских солдат на постой и ночлег.
Свой солдат тоже воняет, но вонь от него привычная, не враждебная. К тому же надо помнить, что русские и прочие жители России едят мало мяса, а больше злаки и квасное. Поэтому вонь хоть и густая, но не едкая. У немца же в основе горох с салом, и вонь у немца калорийная, устойчивая…
Но вот беда, едва освободили советские войска деревню Агарково, как Митька заболел чем-то… Посадила его мать на мимо проезжавшую телегу, повезла к военным в санчасть, рассказала, что она вдова погибшего в финскую войну солдата, и сжалились над ней, оставили Митьку лечиться. Несколько дней прошло, начал Митька поправляться и даже сам выходил к матери и Аннушке на крыльцо, хлеб выносил, которым его вдоволь кормили.
— Ешьте, — говорит, — а то подохнете…
Опять вроде бы радость, и опять эта радость — с бедой пополам. Вдруг ночью налетело на деревню Агарково много немецких самолетов, и к утру от деревни Агарково ничего не осталось. Народ, кто мог, спасся и, что мог, с собой в лес унес. В трех километрах лес этот был, и там теперь советские войска располагались. Но жили в лесу отдельно от военных, своей деревней, а Аннушка с матерью и Митей жили отдельно от деревни, поскольку их в деревне своими так и не считали.
Жила Аннушка с матерью в блиндаже у маленькой речушки, на горке. Митя лежал в этом блиндаже, подстилка у него была мягкая, все, что было с собой из вещей, мать под него подложила, лишь бы выздоровел. И висела в этом блиндаже клетка с птичкой, которую Аннушка нашла на улице, когда бомбили. Какая бы стрельба вокруг ни была, крики, дети плачут, а птичка поет, только солнышко покажется. Полюбила Аннушка эту птичку, и мать птичку полюбила, а Митя в ней души не чаял. Травки ей подложить старается, семечек от подсолнухов, свежую водичку поставит… Однажды Аннушка и мать жали рожь неподалеку, а Митя лежал в блиндаже и слушал, как поет птичка. Вдруг прилетел снаряд, тут же второй, и прямо около блиндажа. Дым пошел, но мать не стала ждать, пока дым ветром унесет, и в этот дым побежала к блиндажу, где Митя лежал. А Аннушка следом побежала. Смотрят — Митя целый вылезает. А но блиндажу словно плугом проехали, и деревья вокруг обгорели. Смотрят еще — клетка на земле, и птичка в ней убитая… Жалко, если вспомнить, как она пела, а что сделаешь? Митя говорит:
— Чувствую, ко мне летит, и влез в блиндаж, уткнулся в угол, думаю, все, сейчас обвалится…