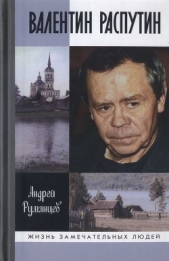Повести и рассказы
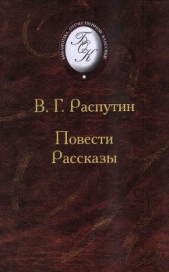
Повести и рассказы читать книгу онлайн
Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, произведения которого стали классикой отечественной литературы, писатель редкого художественного дара. Его язык - живой, точный и яркий, драгоценный инструмент, с помощью которого Распутин творит музыку родной земли и своего народа, наделяя лучших своих героев способностью ощущать «бесконечную, яростную благодать» мироздания, «все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть...».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
За два дня Алексей Петрович привык к одиночеству, и возвратившийся в палату сосед стал занимать еще больше места, чем прежде. Но и жаль было его, даже спящего, храпящего и стонущего одновременно на два голоса, лежащего на спине как-то обломленно и смято, с мукой на обросшем сединой лице. Ничего из своих ночных куролес он не помнил. И когда Алексей Петрович, не вдаваясь в подробности, сказал ему, разбуженному для укола, что ночью он вставал на ноги, тот испуганно вскрикнул:
— Да мне же нельзя!
— В том-то и дело, что нельзя. Как вы себя чувствуете?
— Не мог я себе навредить? — спросил сосед, не отвечая.
— Думаю, что обошлось. Иначе вы бы давно проснулись.
Алексей Петрович читал газеты, за которыми теперь спускался сам. И, читая, обжигался болью, другой, не телесной, горячим ветром обносившей грудь, откидывался обожженно на подушку и терзал себя: как же это могло случиться? Как случиться могло, что на самую дешевую наживку поддались и пошли крушить, и пошли… И кому поддались?! Господи, их только послушать, на них только посмотреть! В любой деревне пустоболта за человека не считали, имели же глаза и уши, чтобы оценить. А когда собралась куча пустоболтов, один другого развязней, один другого корыстней, что за наваждение нашло?! И бил, бил в голову, наяривая лихо, развеселый мотив: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить; с нашим атаманом не приходится тужить!»
— Что пишут? — спрашивал сосед, взглядывая искательно: вдруг Алексей Петрович смилостивится и принесет и для него газеты. Алексей Петрович делал вид, что не понимает, и отвечал сердито:
— Добивают Россию. Доламывают.
— Через тяжелый период пройти надо…
— И куда выйти? — подхватывал Алексей Петрович. — В пустыню? В сплошные развалины? Они же не строители, они не умеют строить. У них профессия такая, талант такой — разрушать! Да, — спохватился он, — вы-то ведь строителем были. Вы можете отличить: или выкладывают стены, или бьют по ним чугунной бабой!
— Я строитель и знаю, что без чугунной бабы на нулевом цикле не обойтись.
— Вот правильно: нулевой цикл. Не дальше нулевого цикла.
— Да вы хоть знаете, что такое нулевой цикл?
Они уже кричали друг на друга. Сосед перекинул через голову руки, ухватился за спинку кровати и подтянулся, чтобы освободить голос, звучащий сдавленно и пискляво. Алексей Петрович поднялся и перебирал ногами, словно собираясь рвануться. И вдруг враз умолкли — будто увидели себя со стороны. Продолжать было опасно.
— Включите мне, пожалуйста, телевизор, — подчеркнуто вежливо попросил сосед.
— Отдохните, — раскланиваясь, не уступая соседу в вежливости, отвечал Алексей Петрович. — Вам вредно.
И одновременно с удивлением наблюдал за собой: зачем же так?
Удивился и сосед:
— Алексей Петрович, ведь вы же не в лесу!..
— Вот именно. Там мы ваши срамотильники не держим на соснах, на елках не развешиваем. Поэтому у нас звери порядочнее людей.
— Да считайте, как хотите. Но телевизор-то включить можно?
— Отдохните! — Алексей Петрович не узнавал себя, не понимал своего упрямства, уже представлял, как он будет потом мучиться от стыда, — и стоял, как пень, на своем.
Он не заметил, когда сосед нажал кнопку. Вошла сестра, Татьяна Васильевна, наклонилась над соседом:
— Болит, Антон Ильич? Обезболивающее сделать?
— Сделать! — сердито отвечал он. — И включите мне, пожалуйста, телевизор.
Сестра выпрямилась и, обернувшись, напряженно и вопросительно смотрела на Алексея Петровича. Он кивнул.
И вышел.
* * *
Солнце то выглядывало из-под тающей алой зыби неба, то снова терялось в ней, как в волне; срывалось вдруг откуда-то бледное солнечное пятно, бежало по аллее, вспрыгивало на ярко-голубую, свежевыкрашенную скамейку и взметывалось на черную стену леса. Парк расходился на все четыре стороны, и с трех сторон разрезали его широкие аллеи с асфальтным полотном машинной дороги, по бокам которой тянулись пешеходные дорожки с часто расставленными скамьями. Дорожки уходили и в лес — и там яркими пятнами с натоптанной подле залысевшей землей стояли скамейки, и туда тянулись на белых легких опорах с выгнутыми шеями перевернутые чаши светильников.
Алексею Петровичу еще вчера позволили гулять, еще вчера он отыскал и перенес в раздевалку плащ и теперь, одевшись, впервые вышел на воздух. Вначале показалось, что свежо, так и дохнуло на него сырой струей, как только вышел, но это и естественно было после недельного лежания, а до того — с маленьким невольным перерывом после лежания месячного в непродуваемой комнате с застоявшимся духом болезней, после кидающих в жар лекарств и не менее кидающих в жар рассказов о том, что бывает, если застудить и воспалить место, где скрывался его незабвенный дивертикул. Но скоро он попривыкнул — нет, хорошо: дышит земля, дышит лес подсыхающей прелью, дышит раскрывающееся небо, воздух полон сладких запахов весеннего брожения и дурманит голову, бередит горло. Алексей Петрович вышел на одну аллею, перешел на другую — все асфальт, и земля не пружинит под ногами, не хрупнет сучок, не блеснет серебристо в сыром углу на месте вытаявшего снега тенетистое кружево… Он вспомнил, что видел из своего окна сквозь голые деревья полосу воды, и пошел туда, где она могла быть. И вышел к маленькому прудку с темной водой, с крошечным насыпным островком посередине и перекинутым к нему горбатым деревянным мостиком. Тут и солнце ударило, золотистыми блестками засветив прудок и делая его еще более сказочным. Стало совсем тепло.
Алексей Петрович нашел удобную скамью — и пруд виден вместе с островком и мостком, и сам он спрятан в глубине уютной освещенной полянки — и опустился на нее, глубоко откинувшись на низкую спинку. Все было рядом — и небо, сгоняющее тучи влево, к востоку, и веселое зеркальце пруда, отороченное, как рамой, маслянистой полосой ила, и две березы на левом его полукружье, низко склоняющие над водой ветви, и железная решетчатая ограда фигурного литья за прудом, и голоса людей с аллеи справа… И так хорошо было, отдавшись солнцу, закрыть глаза и чувствовать, что все это рядом.
Он задремал, но слышал шаги слева, слышал, как уселись там на такую же скамейку, развернутую на дорожку, торцом к пруду.
— Витька! Витька! — донесся счастливый и плачущий молодой женский голос — Как же ты прошел?
— Что же тут не пройти? — отвечал возбужденно Витька. — Я к тебе в любую темницу пройду.
— Почему в темницу?
— В светлицу. Если бы там в древнем замке на краю скалы сторожили тебя драконы — я бы и туда прошел. Мимо Змея-Горыныча и всех его двадцати пяти голов.
Она, не сдерживаясь, заплакала сильней:
— Я тебя люблю, Витька.
— Ну, что за беда, — с нарочитой небрежностью отвечал он. — Я тебя тоже люблю. От этого не плачут.
— Я слабая. И я все еще боюсь.
— Не бойся, Леся, проехало. — Парень еще что-то добавил, но Алексей Петрович не расслышал. Он не хотел подслушивать, но еще более не хотелось ему, пригревшемуся и завороженному, подниматься и переходить. Да и их он бы вспугнул.
— За что они так тебя? — спрашивала она.
— Ты же знаешь: мозги у нас с тобой не туда повернуты. Не то делаем, не так делаем. Знаешь ты, Леся.
Она помолчала и натянуто спросила:
— Ты скрываешься?
— Нет, — быстро сказал он. — Это пусть они скрываются. Я на своей земле.
— Скажи мне правду, Витька…
— Я тебе правду говорю. Правду, правду и одну только правду. — Он говорил прерывисто, должно быть, лаская ее. — Поправляйся скорей. Придет лето — поедем мы с тобой на Валаам. Там и обвенчаемся. Дадут нам келью, мне на подворье обещали. Рядом, под маленьким окошечком, будет плескаться вода. Кругом ни одной чужой души, все свои. Ты там быстро окрепнешь.
— Витя, а ты на подворье скрываешься, да? Скажи мне.
Твердо, по-мужски:
— Я нигде не скрываюсь, даю тебе честное слово. Ты поправляйся, не думай об этом.
Они умолкли, и надолго. Булькнуло: кто-то бросил в воду камешек. Шелестели за деревьями голоса гуляющих по аллее, с фырканьем пронеслась стайка воробьев. И все теплее, все спокойней и ласковей пригревало солнце. Алексей Петрович опять задремал. Снова заговорили с соседней скамьи, но о чем, он не различал, и снова девушка плакала, а мягкий рокоток парня успокаивал ее. Все было как во сне. И, как во сне, где-то далеко-далеко раздался колокольный звон, сначала мерный, важный, потом все быстрей, все тревожней, собирая голоса, которые принялись вторить ему: бом-бом-бом!