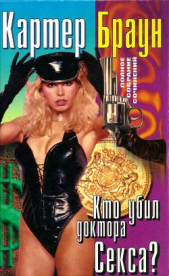Адские машины желания доктора Хоффмана
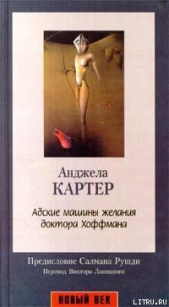
Адские машины желания доктора Хоффмана читать книгу онлайн
Она были слишком своеобразным, слишком неистовым писателем: попеременно чопорной и скандальной, экзотической и обыденной, изысканной и вульгарной, манерной и скабрезной, занимательной и обличительной, пышной и мрачной. От транссексуальной колоратуры «Страстей новой Евы» и до бесшабашных мюзик-холльных вечеринок «Мудрых детей» ее романы не спутаешь ни с какими другими... Иногда на протяжении романа характерный для Картер голос, эти пропитанные опиумным дымом каденции, то и дело прерываемые режущими по живому или комическими диссонансами, эта смесь лунного камня с фальшивыми бриллиантами, изобилия и мошенничества может утомлять. В своих рассказах она способна ослеплять, когтить и ускользать, оставаясь все время впереди.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ну ладно, собралась она как раз обедать, а на обед у нее был такой маленький кусочек ящерки, вот что у нее было на обед, а Змей говорит: «Почему бы тебе не пожарить свой кусочек ящерки на моем огне? Наверняка он покажется тебе намного вкуснее». Она так и сделала, и было это вкуснее всего, что она когда-либо ела, намного вкуснее всех этих сырых слизней, и улиток, и всего прочего. Тут они услышали, что кто-то идет, и Змей как молния проскользнул обратно в нее, и все стало опять как прежде. Ну да, только вот стоило ей остаться одной, как Змей шасть наружу, и она жарила и грела себе еду, и всю зиму было ей распрекрасно и тепло, еще бы.
И теперь ее отец и братья всякий раз навостряли ноздри и облизывали губы, когда чуяли внутри хижины восхитительный запах; как-то попались им на глаза кости, которые девушка плохо обглодала, и сжевали они те крохи мяса, что на них оставались, о! до чего же это было прекрасно! но почему — они и представить себе не могли. Но они видели, что девушка все круглится и круглится, ровно какой-то шарик, а разродиться с виду никак не собирается, а когда прислонишься к ее животу, горяч он, что твоя печка, ежели есть у тебя такая — или знали бы они, что это такое, конечно.
Так что в один из дней запрятался младший, брат в трубу и увидел, как выходит из его сестры Змей, и полыхает по хижине большое пламя, и готовит ей обед. «Что это?» — подумал он, и выпрыгнул, и схватил Змея, и сказал: «Покажи мне свой фокус или я убью тебя!» Но Змей выскользнул у него из рук и исчез в сестре быстрее, чем ты бы сказал «Джек Робинсон», и сестра заплакала и стала оправдываться, но от этого не было толку, ведь она-то не знала, как разводить огонь, да, не умела она.
Нао-Кураи говорил все медленнее и медленнее, оставляя между фразами долгие паузы, заполняемые печальным плеском волн о борт баржи, пока его голова соскальзывала на грудь. Где-то завыла цепная собака.
— Когда отец и остальные братья вернулись и младший брат рассказал им, что он видел, они выхватили свои большие ножи и взрезали сестру нараспашку — как ты разделываешь рыбину. Но Змей был не в духе и не стал показывать им, как разводить огонь. Они задирали его, и запугивали, и раскачивали перед ним, повесив за волосы, голову сестры, и наконец он уступил и стал давать им уроки. Каждый день вечером, после ужина, он тер друг о друга две деревянные палочки и получал от них огонь, приговаривая: «Глядите! Это же просто!» Но они никак не могли выучиться, как бы они ни старались. Они заездили свои старые бедные мозги, измазали пальцы чернилами, но так и не смогли выучить все эти А, Б… или как пишется «кошка», ну никак. Поэтому они поняли, что все дело тут в магии, и убили Змея, и разрубили его на маленькие кусочки. А потом каждый съел по кусочку и… после этого… все они могли разводить огонь…
…каждый из них мог расписаться пламенем в мгновение ока, ничуть не сложнее, чем…
На этом его веки сомкнулись, и он смолк, пробормотав еще только с откровенным удовлетворением: «Делать все ничуть не сложнее, чем все», прежде чем погрузиться в глубокий сон. Я схватил кувшин и залпом проглотил изрядную толику бренди, ибо меня била дрожь — и на сей раз не от холода; меня трясло от ужаса и отчаяния. Я вспомнил прочитанный мною когда-то в одной из старых книг рассказ о каком-то племени в Центральной Азии, которое «считало своим долгом убить и съесть любого чужеземца, оказавшегося достаточно неосторожным, чтобы совершить чудо или выказать какой-либо особый знак своей святости, ибо тем самым они усваивали его магическую силу». Название племени — хазары — однажды помогло мне разобраться с одним трудным кроссвордом; ныне эта вспомнившаяся информация помогла подобрать ключ к другой загадке. Если бы птичий люд захотел иезуитской магии, они съели бы, чтобы ее получить, священников. Как они собирались съесть меня.
И тут же заполнились все зияющие прорехи, признать которые мне мешала единственно моя сиротская сентиментальность. Тот скрытый триумф, который читался во внешности и поведении Нао-Кураи, когда я принял его дочь, Мамина чрезмерная сердечность, их подозрительная готовность усыновить меня, хотя они знали, что, вопреки всей видимости, на самом деле я оставался всего-навсего перепуганным и неведомым обитателем сухопутья, тем, кто не чувствовал всю свою жизнь под ногами лишь колыхание нематериальной реки, но зато обладал самым ценным, самым сокровенным знанием, приобрести которое они могли, только пойдя на отчаянные меры. Я знал не хуже, чем если бы сам Нао-Кураи пропел мне это, что они собирались меня убить и съесть — совсем как Змея, баснословного Огненосца, — чтобы все сумели научиться читать и писать — после общего пиршества, на котором мне предстояло выступить в роли главного блюда в меню, подготовленном к приему гостей после собственного моего венчания. Я разрывался между весельем и ужасом. Наконец я встал, прикрыл будущего тестя, чтобы он не замерз, своей курткой и тихо спустился вниз в поисках дальнейших доказательств.
В главной каюте, мирно посапывая, спали мои братья и сестры, и лунный свет, смешавшись с огнями праздничных фонариков, косо падал внутрь сквозь иллюминаторы и сиял на их горячо любимых лицах. Ведь так оно и было, я не стыжусь в этом признаться, я любил их всех, даже слюнявое дитя, не способное назвать свое имя, дитя, которое писало мне на колени всякий раз, стоило взять его на руки. Мама и моя девочка-невеста делили один и тот же матрас, и, когда я увидел в руках друг у друга старую и молодую плоть, эту в некотором смысле взаимозаменяемую плоть, чьи ткани-близнецы стали частью моего собственного тела, я упал рядом с ними на колени, готовый немедленно целиком им отдаться, отдать им даже свою плоть в той форме, в какой это доставило бы им удовольствие, если они думают, что это принесет им какую-то пользу. Меня захлестнула волна доверия и доброжелательности. Кажется, я плакал — молодой дурак, каким я тогда был. А рядом с Аои лежала ее кукла; маленькая ручка крепко вцепилась в ее красную одежду. Да, это была невыразимо трогательная деталь.
Тут девочка чуть повернулась во сне и что-то пробормотала. Подвинувшись, она приоткрыла то, что должно было быть чешуйчатой головкой ее ребеночка, сдвинув на сторону белый чепец. Я увидел, что под оборками скрывалась не рыбья голова, а кончик лезвия одного из самых больших ножей, которыми пользовалась на кухне Мама. Течение качнуло корабль, и Аои, наполовину проснувшись, сонно прижала нож к груди. Потом очень отчетливо произнесла: «Завтра. Нужно сделать это завтра».
Она перевернулась на спину и захрапела.
Возможно, нож входил в какой-то причудливый ритуал дефлорации. Но, опять же, может быть, и нет. Откинувшись назад, я уселся на собственные пятки и вытер внезапно выступивший на лбу пот; я понял, что не хочу полагаться на призрачный шанс, будто они не собираются причинить мне никакого вреда. Но все же, до того как уйти, я поцеловал их прохладные щеки, сначала — бедной Аои, которая убила бы меня, поскольку ей велели так сделать, запрограммированная марионетка с выбеленным мукой лицом, она не была хозяйкой собственных рук; а потом Мамы, чью кожу я еще никогда не пробовал, не смакуя запах бараньего жира, на котором была замешана ее косметика. Верю, что в ту ночь мое сердце оказалось ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы разбиться, — то есть так близко, как оно только подходило к этому до того, как я сказал «прощай» Альбертине, когда сердце мое разбилось окончательно и навсегда.
Кроме воспоминаний, мне нечего было взять с собой с корабля. Я поднялся на палубу и безмолвно попрощался с бесчувственной фигурой тестя, который сполз со своего сиденья и распростерся по соседству с предавшим его кувшином бренди. Когда я бесшумно перевалил через борт и погрузился в ледяную воду, свечи в бумажных фонариках как раз начинали оплывать, а к тому времени, когда я добрался до берега, они одна за другой стали гаснуть.
Ветер пронизывал мою промокшую одежду, и холод пробудил во мне былого Дезидерио. Повернувшись спиной к баржам и устремив лицо навстречу далеким огням города, я со скучной неприязнью поздравил себя с возвращением в старый дом моей прежней личности. Дезидерио спас Кику от его дражайших родственников, которые бы иначе слопали его на обед, но Кику никак не удавалось отыскать в своем сердце слов благодарности, поскольку все его надежды на свободу и покой рассеялись или утекли прочь, совсем как речная вода, ручьем стекавшая на каждом шагу с его одежды.