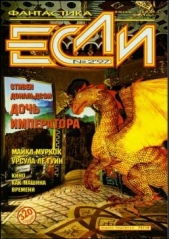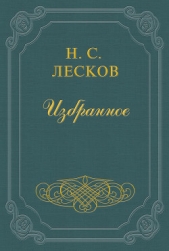Синий гусь

Синий гусь читать книгу онлайн
«Как это все любят твердить — «случайно встретились». Не бывает никаких случайностей. Просто человек выпадает из твоей жизни, ты не думаешь о нем — где он живет, где бывает, какими маршрутами движется — и тебе кажется, что он тут или там оказался случайно. А когда человек этот присутствует в тебе, постоянно прячется в укрытиях твоей подкорки, его самое непредсказуемое возникновение всегда закономерно. И еще я знаю: если какая-то женщина, о которой я никогда прежде и не размышлял, начинает попадаться мне повсюду, она обязательно будет призвана сыграть в моей жизни не бессловесную роль…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут вмешался Степанов:
— Верно, Семеныч, ты бы пошел отдохнул, штаны сменил. Что Москва-то про тебя скажет?
— Еще рюмашечку — на ход ноги, — не глядя на Степанова, сказал Петр Семенович.
И тут невозмутимый обычно Степанов рявкнул:
— «На ход ноги!»… Хватит ваших ходов! В заводе надоело. Это у них, вишь, присказка такая, — он пояснил мне. — Надерутся на производстве, а последнюю — «на ход ноги», — чтобы духу хватило до проходной дойти, а там хоть в грязь вались. — Он боднул головой на грязные курихинские брюки: — Ты уже свой ход израсходовал, вон, видать, отдохнул малость в обочине.
Курихин, однако, не ушел, только покорно сел на краешек стула. Матильда Ивановна начала спеша накладывать ему еду на тарелку: «Поешь, Петя, поешь, голубчик!» И Валера поддакнул: «Поешь, старик, в вашем деле закуска — главный компонент!»
Петр Семенович на стене, оторвавшись от беседы с молодежью, с интересом наблюдал, как Курихин покорно ковыряет вилкой в винегрете, точно не решаясь отправить в рот насаженный с трудом свекольный кубик.
Я посмотрел на Катю. Поймав взгляд, она решительно подошла к Валере и положила руку ему на плечо, как бы объявляя всем свою верность этому парню, которого она не бросает в малоприятной ситуации.
— И когда успел? — сказал мне Димка. — На съемках все вроде о’кей было — позировал, изображал беседу и прочее. — И, не стесняясь присутствующих, заключил громко: — Алкоголики — страшное дело, сто капель примет — и готов.
— Я прошу вас, Дмитрий Алексеевич! — вспыхнула Матильда Ивановна. — Он болен, это — болезнь, к больным так нельзя. Кушай, Петечка, кушай, дружок. Ты же голодный с утра.
Вдруг из угла, где сидел безмолвный Валерин приятель, раздалось:
— А вы бы сейчас героя с сыном, Дмитрий Алексеевич, засняли! Была бы правда жизни.
— Замолкни! — цыкнул на него Валера.
— А что у тебя за картина? — спросил я Димку.
Тот охотно дал пояснения:
— Как бы продолжение вашей «Жар-птицы», Артем Николаевич, я даже кадры оттуда беру как воспоминания. И прочую хронику про Петра Семеновича, конечно. Вот вырос сын героя, тоже художник, поступил в художественный вуз, продолжит дело отца на новом этапе.
— И продолжит, — с вызовом сказал Валера. — Отец, твое здоровье!
Они чокнулись.
А парень в углу не унимался:
— Продолжи, кореш дорогой, продолжи. Изложи зрителям, как тебя в институт по одной фамилии впихнули, как господин кинорежиссер к ректору бегал, будущий фильм организовывал, — парень вдруг обиделся. — А у меня, скажем, баллов больше было, но я кто? Рядовой сын рядового мастера по обжигу. А тут — Курихин! Его и за границу, и стипендию повышенную сразу незаконную. Прошу!
— Это правда? — сняв руку с Валериного плеча, спросила Катя.
— Боже мой, Федя! — вступилась Матильда Ивановна. — Валерик сдавал, он неплохо сдавал, и они сами говорили, что он способный. И заслуги Петра Семеновича… Разве он мало сделал для общества, чтобы ему не ответили благодарностью…
Матильда Ивановна взяла с буфета переложенный туда вишневый альбом и прижала его к груди: этот бархатный щит прошлого как бы должен был заслонять всю ее семью от несправедливых наветов.
И Петр Семенович на стене тверже оперся обеими руками о края трибуны.
— Это правда? — настоятельно повторила Катя.
— Правда, доченька, правда, — откликнулся благодушно Петр Семенович, — все правдочка, чистенькая. Валерку по блатику взяли, и в Финляндию его за фамильичку… Зачем, сыночек, тебя в Финляндию-то слали?..
— Рассказать ихнему студенчеству, какой папаша у него чудесный, — снова высунулся из угла парень.
— Папаша — дрянцо, слабый человечек, — по-прежнему благодушно и душевно сказал Петр Семенович.
— Федя! Федя! — Матильда Ивановна стиснула на груди альбом: — Зачем ты повторяешь эти злые сплетни?! Ну зачем? Зачем они все чернят его? Кто виноват в этих дурацких банкетах и приемах, на которые его таскали? Он же в рот не брал… Кто виноват? Он работал, он всю жизнь работал… Он честный, он жил только ради искусства, ради людей. Петр Семенович и сейчас мечтает…
Милая, толстая Сольвейг из Вялок! Все эти годы она хранила незамутненный образ своего синеглазого Пер Гюнта, в ней, только в ней по-прежнему его молодым порывам и мечтам было отведено место сбережения, и она не даст никому посягнуть на их безупречность, даже если этот Пер Гюнт с разодранной и заляпанной бурой жижей штаниной вернется к ней лишь за тем, чтобы осушить очередную поллитровку.
— Врешь ты все, Матилка, — мрачно сказал Степанов, — от совести он пьет.
— Да бросьте вы, Степан Степанович, богоискательством заниматься: от совести! — Валера круто, с вызовом обернулся к Степанову. — Какая совесть? Где это вы такие понятия выискали?
— Ну ты-то от совести не запьешь, — сказал Степанов.
— Не запью. Не запью, уважаемый. И все, что могу, — получу. Вы меня выучили, отцы-благодетели, вы!
— Валерик, ну Валерик! — Матильда Ивановна молитвенно протянула к нему альбом. Валера не видел, он не слышал, что-то, какой-то шлюз внутри его прорвало:
— Что ж вы бога-то и совесть не поминали, когда про вас липовые фильмики снимали, когда папочка с трибуны по слогам речи читал, которые ему сочиняли? Ну, расскажите, Петр Семенович, как вы в газете обнаружили свой призыв, о котором слыхом не слыхали? А? Люди-то мне это сколько раз в глаза тыкали, знаю. Что ж, я утерся. Так уж за эту благодать хоть свое возьму от жизни. В загнивающем капитализме предки-богачи детишкам капиталы завещают, от моего-то капиталом не разживешься. У нас другая система действует: у нас дети родительской знаменитостью живут. И я живу. И буду. И проценты с этого капитала сниму. Ясно? Ясно, благодетели?
— Замолчи! Стыдно! — закричала вдруг Катя.
— Стыдно? — как бы с любопытством поднял бровь Валера.
— Стыдно, что знаменитость вон по канавам валяется, это верно, стыдно.
— Подлец ты, — сказал Степанов.
Но Валера не стушевался:
— Так ведь гены, почтенный Степан Степанович. Как говорится: яблочко от яблоньки…
Он не договорил — Матильда Ивановна судорожно рванулась к нему, размахнулась зажатым в руке альбомом и ударила Валеру по лицу.
В зависшей тишине тихо и трезво произнес Петр Семенович:
— Не надо, Мотя. Правду он сказал, правду.
Кажется, Курихин настенный недоуменно высунулся из какой-то рамочки, забыв и про трибуну, и про иностранную делегацию, и про внимавшую ему молодежь. Но я уже не помню этого в точности. Я ничего больше не помню из того, что произошло в тот вечер в курихинском доме.
Я знаю только, что лежал одетый, не снимая ботинок, на койке в гостиничном номере (в Вялках уже была своя гостиница!), в номере, так не похожем на мое отельное афинское прибежище с кожаным диваном-апельсином. Я лежал и ждал, когда по коридору простучат Катины шаги: она убежала куда-то, и ее не было до утра.
По коридору простучали ее шаги, она без звука открыла мою дверь и сказала с порога — тихо и, как мне показалось, спокойно, настолько спокойно, что я даже не понял смысла ее слов:
— Петр Семенович умер. Инфаркт.
Мне приснился сон. Сон приснился неделю спустя после возвращения в Москву из Вялок.
Сон был цветным, все краски его были проработаны, как на лучшей пленке «кодак». Говорят, цветные сны видят только шизофреники. Но я, дольше других операторов остававшийся верным черно-белому изображению, всегда вижу только цветные сны, не считая себя психически неуравновешенным.
Мне приснились похороны: хоронили Синего гуся. Покойник лежал на сухом дне коринфского бассейна, с двух сторон омываемого морями — Эгейским и Ионическим. Слепленная из глины гора нависала над бассейном, осеняя его черными кронами кипарисов. Невянущие каменные цветы пропилеи коринфского ордера были возложены к праху покойного. Но я знал, что город, отмеченный каменным пунктиром руин, — Вялки.
Мы все с обнаженными головами стояли вокруг бассейна, а совсем близко к его выщербленному ободку по кругу разъезжал старик на осле в позе амазонки. Старик вздымал в приветствии руку, будто совершая круг почета: