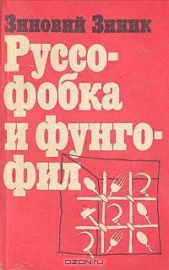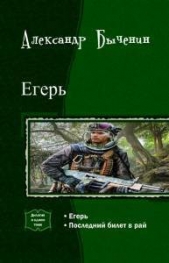Лорд и егерь
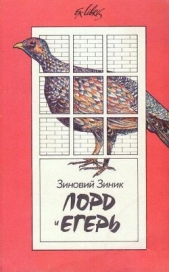
Лорд и егерь читать книгу онлайн
Имя Зиновия Зиника (р. 1945) широко известно на Западе. Он родился и вырос в Москве. С 1975 года живет в Лондоне. Его произведения переведены на немецкий, испанский, датский и иврит. Новый роман З. Зиника «Лорд и егерь» посвящен проблемам русской эмиграции «третьей волны». Проблемы прошлого и настоящего, любви и предательства, зависимости и внутренней свободы составляют стержень романа. На русском языке публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
11
Asylum
Солнце, однако, сделало свое дело (ведь Кент как-никак на той же широте, что и южные провинции России), и, когда они решили, что наступило время ленча, туман, выступивший с утра как пот на разогретых полях, испарился. Зелень сияла как будто вымытая под голубым стиральным порошком небес. Даже небо, казалось, тут дело рук человеческих: настолько уравновешено оно было с пропорциями холмов земных, где овцы и коровы, коза и куры, пасущиеся лошади и гоняющиеся за ними собаки, — у каждого было свое место, и каждый был на своем месте. Дуб посреди лужайки уравновешивался пугалом в дальнем конце поля. Ветер на дальних дистанциях раздувал его рукава, и пугало как будто танцевало под сияющим небом. Дышалось вольно. Они решили устроить ленч Al Fresco — на открытом воздухе перед домом. Хотя ветер и достигал иногда их пределов, трепал белую скатерть и обжигал щеки, он лишь укреплял ощущение свободы и воли, цельности и радости, не покидавшее их ни на мгновенье.
Ленч был незамысловат: фазаны в ореховом соусе, запеченные в духовке. Вино: Бордо Médoc. Эта пастораль была слегка омрачена нелепым спором между Феликсом и Виктором — не спором даже, а недоразумением. Феликс потребовал к фазану горчицы. Сильва собиралась было попросить прислугу принести банку горчицы из кухни, но Виктор остановил ее: фазанов, сказал он, с горчицей не едят — фазанов едят с брусничным соусом, например, но не с горчицей. Феликс раздраженно ответил на это, что фазан — та же курица, и поскольку курицу он привык есть с горчицей, почему бы ему не есть с горчицей и фазана? На что Виктор заметил, что фазан — это птица, в то время как курица, как известно, нет. «В той же степени, что и женщина не человек?» — сострил Феликс, и Сильва вышла из-за стола. Но доктор Генони уговорил Сильву вернуться, а Феликса — испробовать фазана с брусничным соусом, хотя он и продолжал утверждать, что по вкусу фазан — та же курица и, если горчица подходит к куриному мясу, почему нельзя есть с горчицей и фазанье, даже если фазан и не курица?
После ленча Феликс приступил к перечитыванию своих записок:
«Почему Пушкин ухватился именно за Джона Вильсона? Почему, например, не стал переводить строки о чуме из знаменитой в ту эпоху поэмы „короля описательной поэзии“ Джеймса Томсона „Времена года“ (ее постоянно перечитывал великий Тернер): „Из удушливой клоаки Каира, со зловонных полей, усыпанных саранчой, возникает эта великая разрушительница. Ее ужасающий налет не грозит зверью: человек предназначен ей в жертву“. Bruter тут надо понимать как: животные. Собаки, значит, выживут, эпидемия чумы собакам нипочем. Но Пушкина интересовало нечто другое. Ему нужна была не поэма о чуме, а драма. Маленькая трагедия. Домашний театр…»
Он никак не мог сосредоточиться и докончить мысль, потому что Сильва включила радиоприемник и стала слушать «Русскую службу» Би-Би-Си. Их театральный обозреватель Глузберг, рецензируя «Двух веронцев» на сцене Королевской Шекспировской труппы, напирал, как обычно, именно на политический подтекст постановки (двор герцога Миланского был превращен тут в некий символ тоталитарного режима, авторитарной атмосферы и мужского шовинизма). Вся запутанная интрига и конфликт между двумя героями — Протеем и Валентином — вырастала в ходе рассуждений в конфликт между диссидентами и конформистами в обществе, причем тот факт, что Протей разоблачил перед герцогом Миланским планы его друга Валентина (побег с герцоговой дочерью Сильвией), подавался рецензентом чуть ли не как политический донос одного эмигранта на другого. А то, что речь идет об изгнании и эмиграции, не было никаких сомнений. Судите сами. Валентин бежит от карающей руки герцога за границу, в лес, к разбойникам, которые называют себя изгнанниками и эмигрантами. А Сильвию заточают в башню. Валентин кричит: «Ведь смерть — уход от самого себя, а Сильвия и я — одно и то же. В изгнании от Сильвии моей от самого себя я буду изгнан. Не это ли — смертельное изгнанье!» Тема эмиграции засвечивается с первого же монолога Протея, на проводах Валентина, отбывающего в Милан. Протей остается, потому что любит. Любовь приковывает его к родной земле.
«Самое поразительное во всем этом бреде», — сказал Виктор, заставив Сильву выключить приемник, — «что подобным шарлатанским спекуляциям можно найти основания в тексте. Этим театр и раздражает, как и Россия: вольностью интерпретаций. Что ни примыслишь — то и правда, потому что и правды как бы никакой нет, а сплошная, по идее, примысленность. („Эти все по идее, в принципе, в сущности — поразительно, насколько одинаково они с Феликсом в сущности, по идее, в принципе одинаково изъясняются“, — отметила про себя Сильва.) На сцене, по идее, как и в советской жизни, значение и смысл предмета не в том, чем предмет на самом деле является: крашеная картонка на заднике — это якобы небо, а фанерная перегородка — якобы городские стены, не говоря уже о муляжном хлебе и крашеной воде вместо вина».
«Был, как ты знаешь, еще один человек на свете, который занимался тем же», — сказал Феликс.
«Чем это тем же?»
«Претворял воду в вино».
«И религиозные ассоциации — это у тебя все та же развращенность театрального мышления».
«Можно, знаешь ли, само человеческое существование считать просто-напросто неким извращением. Ну да: извращением — смерти. Каковой жизнь и является — с божественной точки зрения».
«И давно это мы начали взирать на людей с божественной точки зрения?»
«С тех пор как эмигрировали по собственной воле».
«Кто по собственной, а кто и нет», — сказал Виктор.
«Да брось», — отмахнулся Феликс. «Ты по собственной воле добился такой ситуации, когда тебя вышвырнули из страны не по собственной воле».
«Собака не отвечает за своего хозяина».
«Но хозяин не отвечает за свою собаку, если она стала бродячей. Меня в „Двух веронцах“ поражает отождествление собаки и хозяина. Фигура шута-слуги Ланса. Точнее, не сам Ланс, а то, что он, не ясно по каким соображениям и с какой целью, все время толчется со своей собакой. В этой комедии, как известно, вообще масса знаменитых нелепостей и ошибок. Но при чем тут, скажите, этот олух слуга и почему он с собакой? Ты знаешь, я впервые видел настоящую собаку на сцене только в Англии. Англичане настаивают на буквализме, на натурализме: мол, мы вам показываем то, что буквально написано в тексте, а интерпретировать — ваше дело». Феликс обернулся к Сильве: «Когда в моем школьном спектакле Виктор играл этого самого Ланса, у нас, конечно, таких дрессированных собак не было. Вначале была идея использовать на сцене куклу, игрушку вместо собаки, муляж какой-нибудь. Но потом я понял: надо делать вид, что собака вообще за сценой. То есть Ланс сидит на сцене и держит поводок, а сама собака как бы за кулисами».
«Прошу заметить», — заметил доктор Генони: «у вас в спектакле это была типичная русско-советская символическая собака, а здесь в Англии она превратилась в натуральную».
12
Пластилиновый замок
Виктор Карваланов проснулся с неожиданной, как голубизна неба над Лондоном, убежденностью в уникальности собственной судьбы. Подобное ощущение он испытал до этого дважды: вместе с первым арестом и когда получил извещение о смерти отца. А в это утро семьдесят шестого года он наконец почуял, что освободился раз и навсегда. Даже предупредительный стук в дверь (к завтраку) не вышвырнул его из койки — паникой лагерной побудки или страхом нагрянувшего обыска. Даже в состоянии полудремы-полубодрствования перед окончательным пробуждением он твердо знал, что он не в лагерной койке, а под шикарным пуховым одеялом, что он за границей собственного прошлого, что он — за границей. Он стал частью здешней экзотики, где утренние тени на стене превращали листву, колышущуюся в переплете окна, в гигантского леопарда, разгуливающего по клетке с тиснеными обоями старомодного гостиничного номера, с золочеными кранами ванной комнаты, где в отсвете ламп (с рисованными янтарными абажурами из навощенной бумаги) его изможденное лицо в зеркальце для бритья покрывалось благополучным загаром. Срезая снежное великолепие мыльной пены двойным скребком фирменной бритвы «Gillette», он в который раз улыбнулся, припоминая единственную паническую мысль, сверлившую мозг, когда с него сняли наручники и вытолкнули вниз по трапу из советского самолета на бетон венского аэродрома: как же он обойдется без лезвия бритвы, хитроумно зашитой в подкладку лагерной телогрейки — с телогрейкой пришлось расстаться в обмен на москвошвеевский костюм перед посадкой в самолет, и он, болван, забыл про бритву, пригодилась бы сейчас, если не ему, так соседям по бараку!