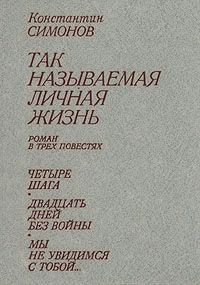Клеа
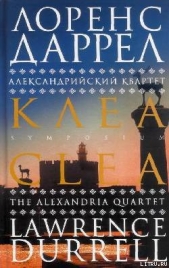
Клеа читать книгу онлайн
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррела, Лоренс Даррел (1912-1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в нем литературного шарлатана. Четвертый роман квартета, «Клеа»(1960) – это развитие и завершение истории, изложенной в разных ракурсах в «Жюстин», «Бальтазаре» и «Маунтоливе». Герои квартета, попавшие в водоворот Второй мировой войны, распутывают, наконец, хитросплетения своего прошлого и, с неизбежными потерями, делают шаг в будущее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ты ведь знаешь, там личная Папы Римского печать, знаешь, да? Я как-то раз покупал у Корнфорда, «Церковная утварь вразнос», на Бонд-стрит, все чин по чину, освящено и запечатано. Тоби взломал печать. С ним было покончено. Я не знаю, отлучают теперь от Церкви или нет, но из списков его вычеркнули, это уж точно. Когда я увидел его в следующий раз, это была тень от прежнего Тоби и одет он был как простой матрос. Пил он все так же крепко, но уже по-другому, это он сам сказал. «Скобчик, – сказал он мне. – Теперь я пью, чтоб искупить свою вину. Я пью теперь в наказание, а не для удовольствия». И весь он погрузился в себя и стал дерганый какой-то из-за всей этой трагедии. Уеду, говорит, в Японию и сделаюсь там бундистом и этим, как его, вездесатвой. Единственное, что его останавливало, – там надо бриться наголо, а он даже и подумать не мог, чтобы расстаться со своими волосами, такие они у него длинные и густые и предмет заслуженного восхищения всех его друзей. "Нет, – говорит, когда мы с ним все это дело обсуждали, – нет, Скобчик, старина, после всего, что я пережил, я просто не смогу разгуливать, пугать людей, лысый, что твое яйцо. В моем-то возрасте, такое будет впечатление, будто чего-то у меня на голове недостает. К тому же, знаешь, когда я был пацаненком [49], у меня случился стригучий лишай, и всего этого нимба венчающего как не бывало. Они сто лет у меня отрастали. Так медленно, я уж думал, никогда мне не цвести под небесами. И мне теперь невыносима даже мысль о том, чтобы с ними расстаться. Да ни в жисть". Я прекрасно понимал его дилемму, но выхода не видел никакого. Он всегда был белой вороной, наш Тоби, всегда, понимаешь, против течения. Заруби себе на носу на будущее: это верный признак оригинальности. Какое-то время он зарабатывал на жизнь тем, что шантажировал епископов, которые в плавании бывали у него на исповеди, и два раза ездил за бесплатно отдохнуть в Италию. Но потом начались еще другие какие-то проблемы, и он стал ходить на Дальний Восток, а когда оседал на берегу, подрабатывал в матросских общагах и всем направо и налево говорил, что собирается сделать состояние на фальшивых бриллиантах. Теперь я его редко вижу, может, раз в три года, и он не пишет никогда; но я ни в жисть не забуду старину Тоби. Он всегда был таким джентльменом, несмотря на все свои передряги, а когда его папаша отдаст концы, рассчитывает получить себе лично несколько сотен фунтов в год. А там, глядишь, мы в Хоршеме объединим силы с Баджи и поставим этот его бизнес с земляными клозетами на прочную деловую основу. Старик Баджи просто не умеет обращаться со всякими там гроссбухами и прочей документацией. А мне с моей подготовкой – я полицию имею в виду – это раз плюнуть. По крайней мере, Тоби мне всегда так говорил. Интересно бы знать: где он сейчас?"».
Представление закончилось, смех угас как-то сам собой, и на лице у Клеа появилось странное, мне раньше незнакомое выражение. Сомнение пополам с дурным каким-то предчувствием, тенью возле рта. Она добавила, старательно и оттого слегка натянуто изобразив естественность: «А потом он предсказал мне судьбу. Я знаю, ты будешь смеяться. Он сказал, что у него такое бывает очень редко и далеко не с каждым. Ты поверишь, если я скажу, что он совершенно точно, в деталях обрисовал мне все, что произойдет в Сирии?» Она вдруг резко отвернулась к стене, и я, к немалому своему удивлению, заметил вдруг, что губы у нее дрожат. Я положил руку на теплое ее плечо и позвал: «Клеа, – очень мягко. – Что стряслось?» И она вдруг выкрикнула в голос: «Слушай, оставь меня в покое, а? Ты что, не видишь, я хочу спать!»
2
МОИ РАЗГОВОРЫ С БРАТОМ ОСЛОМ
(выдержки из записной книжки Персуордена)
С каким-то кошмарным постоянством мы возвращаемся к ней опять и опять – словно язык к дырке в зубе, – к проблеме письма! А что, писателям рекомендуется болтать исключительно о модных магазинах, так, что ли? Нет. Но в ходе беседы с другом нашим Дарли со мною всякий раз случается вдруг приступ конвульсивного головокружения, ибо, хоть мы с ним и похожи как две капли воды, говорить с ним, как выясняется, я положительно не в состоянии. Но – стоп. Все не так – я говорю с ним: бесконечно, самозабвенно, вплоть до истерики, не произнося ни слова вслух! Все как-то не выходит вклиниться промеж его идей, каковые, ma foi [50], обдуманны, приведены к системе, да что там – квинтэссенция «правильности». Двое мужчин торчат на табуретах в баре, раздумчиво вгрызаясь в мирозданье, как в палку сахарного тростника! Один ведет беседу гласом низким, плавно переходя из тональности в тональность, с интуицией и тактом пользуясь родным языком; второй переминается с ягодицы на уныло онемевшую ягодицу, а про себя вопит застенчиво, стыдливо, но вслух – лишь спорадические «да» или «нет» в ответ на славно обработанные фразы, которые по большей части неоспоримо верны и представляют, помимо прочего, немалый интерес! Из этого, наверно, можно бы сделать рассказ. («Однако же, Брат Осел, что бы ты ни говорил, во всем этом не хватает целого измерения. Но как перевести сие на оксфордский английский?») А человек на табурете, все так же покаянно хмурясь, продолжает свои выкладки на тему искусства созидающего – с ума сойти! Время от времени он искоса бросает робкий взгляд в сторону мучителя своего – ибо, как то ни смешно, я действительно его терзаю; иначе он не набрасывался бы на меня при всяком удобном случае, направляя кончик шпаги в сторону трещины в моем самоуважении или в то загадочное место, где, как ему кажется, я держу на замке свое сердце. Нет, нам следовало бы говорить на более простые и надежные темы: например, о погоде. Во мне он ищет некую загадку, которая только и ждет своего исследователя. («Но, Брат Осел, я прозрачнее воды! Загадка здесь и там, и нет ее нигде!») По временам, когда он говорит вот так, у меня возникает необоримое желание вскочить ему на загривок и погонять галопом вверх-вниз по рю Фуад, охаживая «Тезаурусом» и вопя во все горло: «Проснись, придурок! Дай-ка я схвачу тебя за длинные шелковые ушки, ослиная ты жопа, и прогоню по аллее восковых фигур отечественной литературы, где щелкают со всех сторон дешевенькие фотокамеры и у каждой наготове свой черно-белый снимок с так называемой реальности! С тобой на пару мы обманем фурий и завоюем славу, дав правдивую картину отечественной сцены, отечественной жизни, что движется не спеша в хрустко чавкающем ритме медицинского вскрытия! Ты слышишь меня, Брат Осел?»
Нет, не слышит, да и слышать не желает. Голос его звучит мне издалека, на линии помехи. «Алло! Ты меня слышишь?» – ору я и трясу телефонную трубку. И ответ доносится сквозь грохот Ниагары. «Что такое? Ты сказал, что хочешь внести свой вклад в английскую словесность? Еще один пучок петрушки на могилку старой шлюхи? И дуть прилежно в ноздри трупа? И ты уже готов в поход, Брат Писатель? И ты больше не писаешь в штанишки? Ты научился, расслабивши сфинктер, лазать по отвесным стенам? Но тебе знакомы гостеприимные хозяева маленьких швейцарских шале? Что тогда ты поведаешь людям, чья амплитуда чувств аналогична ими заданному спектру? Хочешь, я тебе скажу? Скажу и тем спасу тебя и всех тебе подобных? Одно простое слово. Эдельвейс. Произносится тихим, хорошо поставленным голосом и сопровождается для смазки тихим же вздохом! Тут тебе и весь секрет, в этом слове, что произрастает выше линии таянья снегов! Но затем, решив проблему категориального инструментария, ты столкнешься с другой, не менее сложной, – ибо даже ежели произведение искусства по чистой случайности и пересечет Ла-Манш, его во что бы то ни стало завернут обратно прямо в Дувре, хотя бы на том основании, что оно неподобающе одето! Все не так-то просто, Брат Осел. (Может быть, умней всего просто взять и попросить у французов интеллектуального убежища?) Но ты, я вижу, совсем меня не слушаешь. Все с той же решительной миной ты описываешь мне литературные угодья, о коих раз и навсегда сказал, как припечатал, поэт по фамилии Грей [51], одной-единственной строчкой: «Мычащие стада бредут неспешно лугом!» Вот здесь я подпишусь под всем, что ты ни скажешь. Ты убедителен, ты неоспорим, ты видишь на три фута вглубь. Но я уже предпринял собственные меры безопасности в отношении сей нации духовных приживалок. На каждой моей книжке есть алая суперобложка с надписью: СТАРУШКАМ ОБОЕГО ПОЛА ОТКРЫВАТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ. (Дорогой ДГЛ, как ты был прав, как ты ошибался и как ты был велик, да снизойдет твой дух на каждого из нас!)»