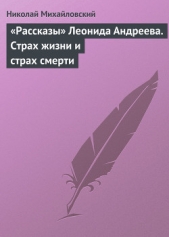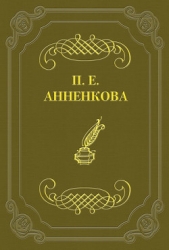Сэр

Сэр читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
“лиса знает много вещей, но еж знает одну большую вещь” – а я, когда спрашивал, интересовался именно живыми, “без мысли” о книге. Я сказал: “Кстати, а вы согласны с тем, что “The Hedgehog and The Fox” переводят на русский “Еж и Лиса”, а не “Еж и Лис”?
Вы совсем не имели в виду Ренара?
– Нет, я не думал об этом, мне это все равно. Моя лиса просто лиса.
– Как та, что я видел на вашем участке?
– Да. А может быть, это был как раз лиса. Откуда мы знаем?
– А ведь Лис-то и есть персонаж, который знает эти “много вещей”, все эти трюки.
– Я знаю, я знаю, я знаю, да-да… А Бродский мне сказал, что это неправильный перевод “еж”, что это должно быть, э-мм…
– Дикобраз.
– … “дикобраз”, да – не знаю почему.
– Да нет, “еж” – хорошо…”
Зверь спрыгивал с забора под книжную обложку так же, как из-под нее выбегала на берег вереница деревьев. Когда идешь вдоль реки в Годстоу, то возле деревни Бинзи видишь их – оплаканных
Джерардом Мэнли Хопкинсом. Их срубили при нем до основания,
“нянек сумрака”, всю их “полую клеть”, хотя трудно вообразить, что те огромные, что стоят сейчас, это новые, высаженные на том же месте. Мимо старых 4 июля 1862 года проплыла часа в три пополудни лодка с оксфордским математиком Доджсоном, его другом
Даквортом в соломенных шляпах и белых фланелевых брюках и тремя девочками в белых платьях, высоких носках и черных туфельках,
Иной, Алисой и Эдит. Дакворт был загребным, Алиса – за рулевого.
У шлюза в Годстоу они высадились на берег, попили чаю и в восемь вечера вернулись домой. За это время Доджсон экспромтом рассказал девочкам историю, до нас дошедшую под названием “Алиса в стране чудес”,- и превратился в Льюиса Кэрролла. Когда они пили чай, перед ними лежали развалины монастыря, на которые удостоился посмотреть и я. Сейчас его каменный каркас покрывало множество однообразных надписей типа “Боб и Сью были здесь”, но знаменит он тем, что в ХII веке “здесь была” Прекрасная
Розамунда. Она жила неподалеку, в доме своего отца лорда
Клиффорда, была, как сказано, прекрасна лицом, телом, сердцем и умом, встретила короля Генриха II и стала его возлюбленной. Он построил для нее дворец-лабиринт, чтобы защитить от преследований своей жены Альеноры. Как попасть в комнату
Розамунды, не знал никто, кроме единственного слуги, которого король каждый раз привозил с собой. Но для Альеноры, которая была и много старше мужа, и уже побывала женой другого короля, а этому родила трех, включая Ричарда Львиное Сердце, мятежных сыновей и всех их на отца натравливала, добраться до соперницы – и отравить ее – представляло меньше труда. Этот оперный сюжет с безутешным Генрихом и сомнительными чудесами на могиле его любовницы я рассказываю, только чтобы заметить, что Доджсону было по каким лабиринтам пускать Алису Лиддел.
Идя по их маршруту, я ловил себя на том, что если встречу его, то первым делом скажу, что и он когда-то ходил по моим – в
Петербурге, куда он, никогда острова Британия не покидавший, вдруг явился. Английскими буквами он записал тогда в дневнике, как торговался с извозчиком: – “Гостоница Клее.- Три грошен (три грошен=тридцать копеек).- Доатцат копеки? – (Негодующе:)
Тритцат! – (Решительно:) Доатцат.- (Смягчаясь:) Доатцат пайт. Доатцат (и делаю вид, что ухожу; дрожки догоняют; я – угрожающе:) Доатцат? – (С восхитительной ухмылкой:) Да! Да!
Доатцат…” Извозчик, конечно, сказал: три гривенника, а не три грошен, и, возможно, несмотря на восхитительную ухмылку, он был выжига, но совсем другого сорта, чем его правнук по цеху – посольский шофер, который возил Берлина в 1945 году. “Шофер
(Берлин выговаривал по-французски – chauffeur) британского посольства, конечно, был агент ГПУ. Никакого сомнения, чем он был. Когда я ехал в автомобиле, он сказал:
“А вот, вот и машина хозяина”. Хозяин был Берия. Это уж было совсем – даже не скрывали.
– Где он вам показал эту машину?
– Перед собой, когда он ехал. “Вот та машина. Это машина хозяина”. Показал мне… Когда я пошел видеть своих родственников, то он сидел в том же поезде, в этом – как по-русски underground?
– Метро.
– …метро. Он там сидел”.
В самом деле – довольно противоестественная функция шофера: сопровождать своего пассажира, клиента, в какой-то степени даже господина – когда он пользуется вовсе другим видом транспорта. В
России того времени, однако, ничего необычного в такой дополнительности профессий не замечали. Чтобы понять, как это ненормально и абсурдно, нужно было иметь образ для сравнения: петербургского извозчика прошлого века – или нынешнего оксфордского таксиста, вроде того краснолицего балагура, что, везя меня к церкви, всю дорогу веселил рассказами о теще, а доехав, отрапортовал по радиотелефону: “Canterbury Road, Russian
Greek Istanbul Turkish Orthodox Church!” – Кентербери Роуд,
Русская Греческая Стамбульская Турецкая Православная Церковь. У
Берлина в памяти были тот и другой. Впрочем, и меня посетило чувство нереальности происходящего, когда в Годстоу на постоялом дворе “Форель”, куда я зашел перекусить, со мной заговорил местный художник, представил своих спутниц, которые оказались его первой женой и его второй женой, а затем представился сам:
“Такой-то. Марксист. Последний марксист Великобритании, а возможно, и Вселенной”. Он стал с ходу наскакивать на меня: допускаю ли я, что позволительно трудиться на другого, что на свете есть такие деньги, за которые этот другой может купить его труд? При всей эксцентричности, при всем юморе, фирменно английском, не говоря уже о неопровергаемой логике, фирменно тоталитарной, это был чистый абсурд. Я готов был объяснить его тем, что место порождает коллизию,- но мне тоже было с кем сравнивать этого единомышленника советского политбюро.
Что бросалось в глаза общего между Россией, из которой Исайя уехал, и Оксфордом, в котором оказался, это слякоть и эмигранты.
Дорожки, протоптанные вдоль рек и через луга, начинали чавкать под ногами и забрызгивать обувь жижей после очередного дождя, а внеочередных в Англии, как известно, нет, так что осенью и зимой времени просыхать у них почти не случалось. Всякая прогулка новым, не хоженным еще маршрутом обязательно выводила на берега грязноватые, глухо и грубо заросшие, хотя все-таки с отчетливой тропинкой. По ней, через неожиданный и ничей яблоневый сад с валяющимися на земле яблоками, в конце концов попадаешь на какой-нибудь гребной клуб или какую-нибудь, пусть францисканскую, церковь, стоящие на добропорядочной городской улице, на которой твои заляпанные башмаки выглядят ни разу с
Москвы не чищенными.
Русские эмигранты, немногочисленные, брали густотой атмосферы, органически вокруг себя нагнетаемой. Бывший известный балетмейстер подписал хороший контракт, купил в Оксфорде дом. Мы столкнулись на улице, как-то опознали друг друга, он пригласил в гости. Он жил с подругой, тоже из России, но уже прошедшей
Израиль и Штаты. Им нравилось материться, мы перекидывались историями, анекдотами, потягивали из стаканов кто что хотел.
Хозяин, похоже, пил уже профессионально. Вскоре помрачнел, заговорил об уехавших на Запад: “Здесь они со мной на “ты”, а там в пояс кланялись”. Подруга сказала: “Вот и погано, что кланялись”. Он хохотнул: “Там все, а здесь одна ты”. Но про кого бы ни заходил разговор, хвалил щедро и убежденно: “прекрасный танцовщик”, “прекрасный артист” – о Годунове, Васильеве, Панове.
Подруга с обидой рассказывала: “Я тут позвонила одной, с
Бродским знакома, говорю: давай я тебе моего, а ты мне своего, то есть пообщаться. Она: кого ты мне и кого я тебе! – мол, несправедливо”. Потом, ткнув в “своего”: “У него жена – стукачка. Певица. Золото скупает – вот и вся песня. А сын, приехал сюда с ракеткой, показать, что бездельник; я говорю: пойдем в музей, пойдем в Ковент Гарден, пойдем колледж присмотрим на будущее – а он: пойдем лучше пепси пить, а еще лучше пиво”. Перешла на “баб”, как они маэстро проходу не дают, приезжают, лезут в постель. “Из-за одной днем не поспал, а ему вечером в “Ромео” папу Капулетти танцевать, полтора всего вращения, ну и спотыкнулся”. Он сказал: “Всё правда. В общем, жизнь артиста, или вырождение шаляпинства”.