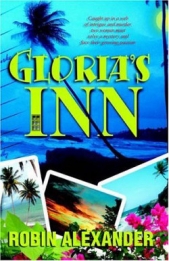Город, в котором...
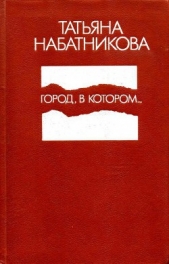
Город, в котором... читать книгу онлайн
В новую книгу молодой уральской писательницы вошли роман «Каждый охотник», повесть «Инкогнито» и рассказы — произведения, в которых автор в яркой художественной форме стремится осмыслить самые различные стороны непростого сегодняшнего бытия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот он теперь вдруг:
— Устал… Пятнадцать лет председатель. Все. Износился. Износил председательство — как френч.
(Сорок километров дороги, ветер полей в лицо…)
— Это не возрастное, я никакого такого возраста и не чувствую. И понятия не имею, какой такой возраст. Эта усталость — как аккумулятор садится. Накапливаются шлаки. Власть на человеке с годами нарастает, как годовые кольца на дереве. И человек как бы умощняется. И все больше перед ним притихают. За спиной уже клянут, а на собрании сказать боятся. Еще бы: вдруг не удастся свергнуть? — тогда ведь я мятежников живьем заем! Ну и сидят. Да и лень тоже! Отголосовать скорей — и за бутылку. Никому ничего не надо. А я смотрю на все это — и мне даже интересно: докуда они дотерпят меня, до какого упора? Эксперимент, можно сказать, ставлю на себе. Чуму себе прививаю!
Жутковато засмеялся. Нина сжалась, пальцы к губам.
— Пьют? — спросила шепотом, с предосторожностью: чтобы не дать бесноватым темным силам легального существования, громко называя их по имени. Пусть таятся по углам, вслух мы не признаем их — а неназванные, они не посмеют выползти на свет.
— Запились, — так же тихо ответил отец.
Нина зажмурилась — от гибели мира, на который полагалась, в котором собиралась долго и счастливо жить. Отец увидел в зеркало и не стал успокаивать.
Неподвижно стояли у дороги поля, глядели на людей, как погорельцы с картины Прянишникова, — и даже не протягивали руки.
— Что же делать, а? — спросила Нина — беспомощно, как в детстве, когда отец еще знал, ЧТО ДЕЛАТЬ.
— А, отвернись и живи. Доживай. Что ты можешь сделать!
Нина виновато глянула из окна машины — как совестливый дворянин из кареты на взоры столпившихся крестьян.
— Деда, а волки здесь живут? — теребил Руслан.
Нина смотрела на поля: живут ли здесь волки? Эти лесистые лога дружелюбней домов, тут когда-то колесили на великах, ели весной тюльпаны-«барашки» и сочные стебли «петушков», а летом саранки, мир был одухотворен, как кровный товарищ, — какие волки? Но вот этот мир, он взирает отчужденно, как одичавшая лошадь, не узнавая хозяина; как жестокий монгол, не могущий внять мольбе, — все изменилось, как будто геологические эпохи прошли со времен ее юности, земля постарела, осела, истощилась — и, как на больном человеке заводятся вши, так на этой земле, оставленной без ее, Нининой, любви и присмотра, вполне могли уже завестись и волки!
Неужели ничего нельзя сделать?
— Папа! — придумала. — А ты подай заявление, пусть тебя переизберут!
— Волков у нас нет, — сказал Руслану. — Зато есть цыгане. — И вздох, уже Нине: — Ты думаешь, дело во мне?
— А вдруг?
— Кто такие цыгане? — пытал Руслан.
Лерка проснулась, заворочалась и заплакала. Отец помолчал, потом злорадно сказал:
— Все равно не уйду.
— Но почему? — досадливо, укачивая дочь.
— А не хочу, — с той великой простотой сказал, с той пустотой, которая остается в человеке, из которого до капли вытекла вся вера, любовь вся и надежда.
Давно же Нина дома не была. Она и Лерку плачущую трясти забыла, она вытаращила глаза — так вирусы, наверно, остолбенели при появлении пенициллина, и какое-то время понадобится, чтобы выработать встречное противоядие; она растерялась: как же так, где же ОНО — то, что держало мир на своих плечах, те три кита? В Хабаровске на площади стоял — из старинной, потемневшей и позеленевшей бронзы — усталый русский мужик в казачьей шапке, тулуп овчинный сполз с плеча, обнажив кольчугу; стоял мужик прочно, просто и достойно, иструдавший, но крепкий, и не было в нем позы ни героя, ни властелина. И сколько дней жила там Нина, столько раз ездила к нему на площадь — за верой. Посмотрит — и почувствует, что жизнь прекрасна и проста и что к правде призывать не надо, так надежно она скажет за себя сама. И на подиуме надпись, всего три слова высечено в полированном граните с простотой старинного времени: ЕРОФЕЮ ПАВЛОВИЧУ ХАБАРОВУ.
— …черные такие люди, цыгане, — объяснял отец Руслану. — Поселились у нас в деревне, купили дом. — Обернулся к Нине. Мира искал, заискивал: — Слышишь? Семейство человек двадцать, кто кому кем приходится, сами не знают. Двух человек отдали в жертву: работают от них ото всех на конюшне — для блезиру. А цыганки каждое утро — на городской автобус — и на промысел. На настоящие, так сказать, заработки.
— Гадать умеют? — согласилась Нина на мир, нет, на перемирие.
— Я тебе погадаю! — нежно сказал отец и с облегчением прибавил газ.
Но вот и дом, бог ты мой, мама на крыльце, синие ее глаза, так перед взором и стоит дымка, как будто синева испаряется; а вот бабулька выползает на свет божий, а за нею шарашится дружочек ее, дед Слабей. Ахи, слезы, улыбки…
Все будет хорошо. Вечерами — ночами — будут сидеть на веранде. Обострится к ночи запах земли и ее растений; глядеть из темноты без препятствия в самые зеницы звезд; а голоса будут жить отдельно, в темноте — заметнее, чем днем.
«Вот ты выросла, а мы с отцом стали как прошлогодние картошки. Вырос из нас новый куст — вся наша жизнь в тебя перекачалась». И разубеждать: «Мама, нет! Вы не картошки, вы — дерево, которое цветет каждый год, а я лишь плод, который поспел и отвалился».
Уж дед Слабей, отпивши чаю, удалился, кряхтя, в темноту улицы — к себе домой потопал доживать.
«Бабуля, что за беспринципность!» Улыбается бабуля, отмахивается. Он ее когда-то раскулачивал, Слабей, было время. А теперь родные. Чем меньше их остается, старичков и старушек, ровесников, тем они теснее друг к другу прибиваются. Сужается вокруг них смерть кольцом, никому не видно, только им одним. А молодые живут рядом — и невдомек им, и не слышат, и не подозревают даже, что кто-то в опасности: кругом все спокойно, войны нет. В войну-то не обидно помирать: все поровну. Обидно одному уходить — среди общего лета. Спасите, помогите! Никто не услышит. И тогда жмутся, как ягнята в буран, и все друг другу простили.
«Бабуля, как же так, а?» — забавляется Нина. Бабуля машет рукой, топит улыбку в чем-то таком, что уже и лицом не назвать — одна идея. Уж это у стариков и младенцев одинаково: у них есть только суть, идея, а внешности почти нет — за ненадобностью. Внешность нужна промежуточному возрасту, чтоб служить паролем, отличительным знаком, по которому один выбирает другого для продолжения рода — так растение в свою пору выпускает наружу цветок — чтоб его опознали — а после вновь сливается с общим зеленым покровом.
…И остаться тут. Роскошная мысль.
«Руслан, останемся тут?» — «А папа?» — «У нас будет дедушка вместо папы». — «А папа?» — «Да видишь же, с папой совсем невозможно стало жить!» Подумал недоверчиво своей головой и упрямо опроверг: «Нет, с папой можно жить». — «Можно?» — «Можно», — с твердостью.
Можно?! Влезши на стул, он стоит, этот его папа, у форточки зимой и принюхивается к воздуху. В руке у него комнатный термометр, приготовленный, чтоб высунуть наружу.
— Завтракать!..
— Сейчас-сейчас, — бормочет.
Хорошо же ему. А она закончила уборку, подняла пылесос с ковра, чтоб унести, — защелки с грохотом в который уже раз соскакивают, аппарат распадается в воздухе на части, пыль и ошметки — рух, пух, пых, и чтоб тому конструктору таких же всяческих благ, а этот все торчит в форточке, проверяет свои догадки. Руслан за столом болтает головой и ногами, яичница спрыгивает с вилки, и он ловит ее, сгребая всей горстью, как ускользающую рыбку, и заливается смехом, как в игре с живым товарищем.
— !!! — угроза ему — глазами. Не верит, смеется.
На третьей тарелке яичница стынет, папа Сева измеряет температуру наружного воздуха. А воздух рвется внутрь, как в поисках укрытия. Порабощенный городской воздух — как конь, которого словили и навьючили: вывози выхлоп нашей скученной жизни. Особенно тяжко ему в безветрие: сверху давит, топит вниз — а сбоку никакой помощи. Зато в солнце, когда небо доверху освободится, воздуху просторно, он взмывает на дыбы и блистает морозными искрами. Но ему, Севке, природа, лишенная разума и свободы воли, — лишь полигон, на котором материя подвергается действию физических законов.