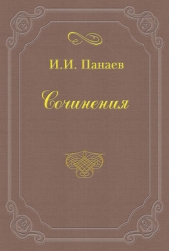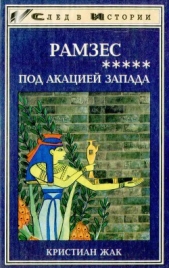Первый арест

Первый арест читать книгу онлайн
Илья Давыдович Константиновский (рум. Ilia Constantinovschi, 21 мая 1913, Вилков Измаильского уезда Бессарабской губернии – 1995, Москва) – русский писатель, драматург и переводчик. Илья Константиновский родился в рыбачьем посаде Вилков Измаильского уезда Бессарабской губернии (ныне – Килийский район Одесской области Украины) в 1913 году. В 1936 году окончил юридический факультет Бухарестского университета. Принимал участие в подпольном коммунистическом движении в Румынии. Печататься начал в 1930 году на румынском языке, в 1940 году перешёл на русский язык. После присоединения Бессарабии к СССР жил в Москве. Первая книжная публикация – сборник очерков «Гитлер в Румынии», вышедший в 1941 году. Член Союза писателей СССР с 1955 года. На протяжении 1960-х годов создал автобиографическую трилогию «Первый арест» (1960), «Возвращение в Бухарест» (1963) и «Цепь» (1969) о подпольном революционном движении 1930-х годов в Румынии. В 1960-1970-е годы в нескольких книгах одним из первых в русской литературе затронул тему Холокоста в Польше и Румынии (см. повесть «Срок давности», 1966). В 1970 году в серии ЖЗЛ опубликовал беллетризованную биографию румынского писателя И.Л. Караджале, чей том избранных произведений в переводах, составлении и с комментариями Ильи Константиновского вышел в 1953 году. Рассказы И.Л. Караджале в переводах И. Константиновского были также включены в том классической румынской литературы, выпущенный издательством «Художественная литература» в серии «Библиотека Всемирной Литературы» в 1975 году. Занимался переводами современной и классической художественной прозы с румынского языка, публиковал литературоведческие статьи по современной румынской литературе в журналах «Звезда», «Новый мир», «Иностранная литература» и других. Произведения: · Первый арест: Повесть. Москва: Советский писатель, 1960 · Возвращение в Бухарест: Роман. Москва: Советский писатель, 1963 · Первый арест: Повесть. Москва: Детская литература, 1965 · Срок давности: Повесть. Москва, 1966 · Цепь: Роман. Москва: Советский писатель, 1969 · Караджале. Серия «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ). Москва: Молодая гвардия, 1970[1] · Книга странствий: Путевые очерки. Москва: Советский писатель, 1972 · Первый арест. Возвращение в Бухарест. Москва: Советский писатель, 1975 · Города и судьбы: Документальные рассказы. Москва: Советский писатель, 1979 · Книга памяти: Документальные рассказы. Москва: Советский писатель, 1982 · Время и судьбы: Повести. Москва: Советский писатель, 1988 · Московская улица. Ваша явка обязательна (совместно с Борисом Ямпольским). Москва: Книжная палата, 1990 · Судный день. Исповедь советского еврея (роман). Библиотека «Алия». Иерусалим, 1990 · Как свеча от свечи…: Опыт биографической мысли. Москва: Московский рабочий, 1990 · Тайна земли обетованной. Москва: Библиотека журнала «Огонёк», 1991 (Из проекта "Википедия")
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– У меня дети… Две девочки…
Что следует говорить в таких случаях? Я не знал. А он продолжал молчать. После длинных, проведенных здесь дней и ночей молчание было для меня особенно нестерпимым. Я смотрел на Леонида и мучился сложностью всего того, что увидел с момента ареста. Вот новая загадка, новый вопрос, в котором надо разобраться после «рыбака» и теософа. Нет, конечно, Леонид не такой – он не предатель, он ничего им не сказал, хотя я ведь ничего не знаю, но думаю, что он молчал, он не трус и не предатель… Но кто же он? Человек, у которого есть дети, две девочки.
Он их любит. Это понятно: все любят детей. Нет, все-таки непонятно. Значит, революционерами могут быть только те люди, у которых нет детей? У меня нет детей.
Но революцию не делают мальчики. У кого есть дети, тот не может быть смелым, твердым, непоколебимым? А у кого есть братья, родители? У меня есть родители…
И я вдруг вспомнил, что не думал до сих пор о том, как родители отнесутся к моему аресту. Эта мысль меня огорчила. Я уже не видел Леонида. Я видел впалые, заросшие щеки отца, его коротко остриженную черную бородку и его глаза – карие, тихие, грустные; я видел палку с медной рукояткой, о которую он опирался сухой, дрожащей рукой; видел эту руку со слабыми морщинистыми пальцами, как она протягивала мне, накануне моего отъезда в гимназию, маленькую, покрытую вытертым и вылинявшим бархатом коробочку, в которой лежали мамины золотые часики: «Они давно не ходят… но у меня ничего больше нет… Продай их – все-таки это золото. Больше нечего продавать».
Вспомнив все это, я почувствовал страшную грусть. Что он теперь скажет, когда узнает о моем аресте? Что скажет мама? Может быть, я не должен был этого делать?
Но я немедленно отбрасываю от себя эту мысль. Все во мне протестует против такого вывода. Я должен был. Должен. И я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным, счастливым мечтам, к тому отчаянно решительному настроению, в котором я находился до появления Леонида; но я вижу, что это уже невозможно. Леонид здесь, и я уже не существую сам по себе: нас двое, мое состояние зависит теперь и от его состояния, нас двое, я не могу думать только о себе и для себя – нас двое…
Каким должен быть мир?
Пять дней я провел в полицейской камере вместе с Леонидом. Нас допрашивали только по одному разу, и никто не приходил к нам, кроме стражника, который молча открывал дверь, бросал на рогожу всегда одно и то же: брынзу с хлебом – и снова молча, не произнося ни слова, запирал дверь и оставлял нас вдвоем. Я привык к заключению, но Леонид не мог привыкнуть к своему положению: он все время говорил о доме, о своих девочках, и на него было жалко смотреть. Все же он не был малодушным. Когда он рассказал мне подробно о том, как его арестовали и как допрашивали, я понял, что он не испугался полицейских и не страшился побоев. Гораздо большее впечатление произвела на него осведомленность допрашивавших его шпиков.
Человек, которого я считал кладезем мудрости, не понимал многих простейших вещей.
К нему на дом часто захаживал Макс и еще кое-кто из арестованных, и в полиции пытались сделать вывод, что у него на квартире проводились нелегальные заседания.
– Кто-нибудь в этом признался? – спросил я Леонида, выслушав его рассказ.
– Нет…
– Они называли имена?
– Нет…
– Угрожали очной ставкой?
– Нет…
– Тогда все в порядке: они ничего не знают – только догадываются.
– О нет! Они все знают! Они знают все дома, где я давал частные уроки… Знают, как я живу… Они знают даже, когда девочки болели корью!
– Это просто: кто-нибудь из соседей им рассказал. Они знают то, что им говорят.
Того, что им не говорят, они не знают.
– Вы так думаете?
Он страшно удивился и задумался.
Несмотря на свои двадцать семь лет, Леонид был не выше меня, да и весом тоже, пожалуй, не больше. Я всматривался в его бледное лицо, в безжизненные глаза, которые не смотрели на окружающий мир, а выглядели такими глубокими и мудрыми, что взгляд их, казалось, говорил: «Зачем мне смотреть на мир? Я и так все о нем знаю». Я вспомнил наши беседы в библиотеке и сказал:
– Вот что, товарищ Леонид! Довольно вам думать и говорить о детях. Этим делу не поможешь. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом!
– О чем?
– Мало ли о чем можно разговаривать! Вы так много знаете. У меня есть вопросы.
– Какие?
– Разные. Давайте по порядку. Сначала вы прочтете мне лекцию. Например, о диалектике. А когда вы устанете, я буду читать вам…
– Что?
– Я могу научить вас выписывать накладные при погрузке зерна. Могу читать вам курс бухгалтерии – меня обучали этому совсем недавно,- папа хотел, чтобы я стал бухгалтером.
– Ну что ж, это интересно. Я действительно ничего не понимаю в бухгалтерии!
Я смотрел на него и изумлялся: неужели его действительно могут заинтересовать правила дебета и кредита?
Мы немедленно приступили к беседам, и я с радостью убедился, что это пойдет ему впрок. Разговаривая об отвлеченных предметах, Леонид преображался. Он забывал о своем положении, забывал о девочках. И говорил с заразительной воодушевленностью о самых разнообразных вещах, о форме и сути вещей, о тайнах природы, о чудесах будущего. Я заметил, что будущее интересовало его больше всего остального. Он знал уже сейчас, каким будет мир через тысячи лет. Верней, каким он должен быть. Во всех подробностях. Не только общественные отношения: коллективная собственность на средства производства, равенство, отсутствие эксплуатации, несправедливости, зла… Он знал, какими должны быть книги и газеты будущего, какой должна быть литература, музыка, живопись, какой должна быть земля и какими должны стать моря и океаны, люди и животные, цветы и леса…
Рассказал он мне кое-что и о себе: четыре раза блестяще выдерживал он вступительные экзамены в политехникум, на биологический, медицинский и даже математический факультеты, но ни один из них не окончил: после одного-двух лет безуспешной борьбы за существование в большом городе он вынужден был каждый раз возвращаться домой с новым запасом знаний и новым очагом в легких.
– В старину легче было заниматься науками, – сказал, он, усмехнувшись, и рассказал о своем деде, ученом-талмудисте, который женился на дочери богатого купца, предусмотрев в брачном договоре, согласно обычаю времени, что тесть берет его в свой дом: «на всем готовом и на всю жизнь».
Он еще помнил деда и описал его: очень худой, седой и страшно заросший – к его лицу никогда не прикасались ножницы, в черном люстриновом лапсердаке, коротких панталонах и белых шелковых чулках.
– Ученый был старик. Однажды во время прогулки, когда он рассказывал мне, как строился Иерусалимский храм, и перечислил наизусть все тридцать три сорта дерева, которые пошли на постройку, я вдруг спросил его, как называется дерево с красноватым стволом, росшее у наших ворот. Он не знал. Он не сумел бы отличить клена от акации… Смешно, правда?
Чем больше я слушал Леонида, тем сильнее верил, что он знает все: из чего состоит молекула каждого вещества и сколько весит весь земной шар, что говорил Сократ накануне смерти и почему Александр Македонский выиграл битву при Гранике.
У него были обширнейшие знания не только в философии, истории, математике, но и в медицине. Он знал, например, все, что известно было врачам о его собственной, легочной болезни: как образуются каверны и как под влиянием свежего воздуха, отдыха и обильной пищи они зарубцовываются. Но где и как добыть для себя немножко свежего воздуха, покоя и сытной пищи, – этого он не знал. В злом водовороте борьбы за существование его тянула ко дну непрактичность того самого деда, который определился к своему тестю «на всем готовом и на всю жизнь». А Леониду приходилось самому заботиться о себе и о своих девочках…
Мы сидели допоздна в темной, сырой камере и шепотом вели нескончаемый разговор.
Запахами лета, простора, свободы входила прохлада в щели окна, расчерченного железными прутьями тюремной решетки. Из всего огромного мира мы видели только это: черные квадраты решетки на фоне блестящего, разбитого по углам оконного стекла. Но мы слышали все шумы окружающей нас жизни: и тяжелые шаги в коридоре, и ругань, и далекое пение, и мирное стрекотание сверчков и протяжные пароходные гудки на реке. Потом все звуки и шорохи смолкали, словно растворившись окончательно в густой темноте. И оставался только блеск очков и тихий, ровный шепот Леонида, который рисовал мне уверенными точными мазками картину мира… таким, каким он должен быть!