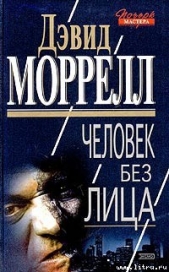Шатуны

Шатуны читать книгу онлайн
Комментарий автора к роману "Шатуны":
Этот роман, написанный в далекие 60-ые годы, в годы метафизического отчаяния, может быть понят на двух уровнях. Первый уровень: эта книга описывает ад, причем современный ад, ад на планете Земля без всяких прикрас. Известный американский писатель, профессор Корнельского университета Джеймс МакКонки писал об этот романе: "…земля превратилась в ад без осознания людьми, что такая трансформация имела место".
Второй уровень — изображение некоторых людей, которые хотят проникнуть в духовные сферы, куда человеку нет доступа, проникнуть в Великое Неизвестное. От этого они сходят с ума, как будто становятся монстрами.
Первый уровень прежде всего бросается в глаза. Вместе с тем, МакКонки пишет, что "виденье, лежащее здесь в основе — религиозное; и комедия этой книги — смертельна по своей серьезности". Очевидно, имеется в виду, что описание ада всегда поучительно с религиозной точки зрения. Вспомним, Иеронима Босха. Кроме того, изображение духовного кризиса неизбежно ведет к контреакции и осмыслению. Иными словами, происходит глубинный катарсис. Поэтому мне не кажется странным, что этот роман спас жизнь двум русским молодым людям, которые рели покончить жизнь самоубийством. Случайно они вместе прочли за одну ночь этот роман — и отказались от этого решения, осуществить которое они уже были готовы.
Тем не менее, не рекомендую читать этот роман тем, кто не подготовлен к такому чтению.
Позиция автора (во всех моих произведениях) одна: это позиция Свидетеля и Наблюдателя, холодная отстраненность. Это ситуация бесстрастного Исследователя. Герои могут безумствовать сколько угодно, но автор остается Исследователем и Свидетелем в любом случае. Если угодно такой исследовательский подход, можно назвать научным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вот он: русский эзотеризм за водочкой! — проговорил кто-то под конец.
VIII
На следующий день утром, после того уже как приехала Анна, калитка Сонновской обители отворилась и две нелепые, странные фигуры показались на дворе. Одна из них вела другую под руку. То был Федор Соннов, а второй — Михей, который любил, чтоб им гнушались. Медленно, точно принюхиваясь, они обошли весь дом. Из открытого окна Клавуша приветствовала их, равномерно помахивая щеткой. Первым на гостей выскочил дед Коля; визгливый и тонкий, но с остановившимися, выпученными глазами, он помахал тряпкой на Михея. Михей стоял покорно, просветленно улыбаясь в Колино лицо. Федор вдруг развалился на траве, как свинья; и было странно видеть его жуткую, полумертвую фигуру, валяющуюся на земле и этим похожую на отмеченную природой обыкновенную свинью.
Понемногу из дому стали высыпать и его другие обитатели. Даже солнце, светившее на этот раз яростно и неугасимо, точно почернело, словно у солнца имелся разум. Никто даже не собирался завтракать; все были заняты собой и своими гнойными мыслями.
А Федор даже не обратил внимания на Аннушку, которая непрочь бы с ним по мракобесию пококетничать.
— Чрез смерть нашу имею только общение с женщиной, — прорычал он ей в лицо, и пошел из дома на Лебединское кладбище, где сиротела могилка Лидоньки.
Там, в одиночестве, Федор долго плясал, если только можно назвать то, что он вытворял плясом, около ее могилы. Пятил губы вперед, на невидимое.
Днем появился Алеша Христофоров, совсем замученный и ушедший в себя.
Куро-труп совсем почти не высовывался; всем была видна только его непонятная тень.
Алеша все-таки убедился, что отцу — по крайней мере физически — здесь «хорошо»; если уж «лечить» — решил Христофоров, — то формально место ему может быть только в сумасшедшем доме; но зная тамошние порядки и прочее, Алеша отбрасывал всякую мысль об этом; оставалось только ждать. Поэтому Христофоров думал лишь как бы уехать отсюда по своим неотложным делам.
Усиленно молился, чтоб отстранить черное; да непосредственно к нему никто и не лез; главный насмешник над ним— Падов — был сейчас так отвлечен от внешнего мира, что совсем застывал, с рюмкой водки около рта.
Возвратившийся же с могилы Федор обошел Алешу стороной, как несуществующее.
Правда, за калиткой Сонновского дома, Христофорова облапила и пыталась снять с него штаны медсестра, выползшая на четвереньках из лопухов. Ускользнув, Алеша признался:
«Так ведь это та самая медсестра, которая лечила папу… Недаром Клавдия Ивановна говорила, что она любит спать в лопухах… А Аннушка еще ответила, что это преувеличение…»
Словно подстать его мыслям где-то за забором раздался нутряной полу-крик, полу-вой «папы», скорее напоминающий нечеловеческие звуки трубы.
Повинуясь инстинкту на непонятное, Алеша еще раз забрел на Сонновский двор, обойдя его с другой стороны. Не забывал шептать что-то библейское.
Во дворе уже никого не было, кроме Михея уснувшего у бревна. Поганая кошка пыталась лизнуть его пустое место. Алеша прошел мимо этой сцены вглубь, в распахнутую дверь дома. На лестнице он услышал голоса, доносившиеся из ближайшей комнаты.
Выделялся резкий, торжествующий, духовно-утробный голос Анны…
Алеша спустился вниз, во двор.
Поганой кошки около пустого места Михея уже не было. Рядом, с изменившимся лицом, лез в сарай к куро-трупу белокурый Игорек — нечеловечить. А когда Алеша уже покидал Сонновскую обитель, последнее что он увидел: застывшие глаза Петеньки, уже не баюкавшего себя. Обойдя канаву, откуда уже выползала сестра милосердия, Христофоров побежал к станции.
IX
Между тем Петенька уже не только соскребывал с себя прыщи и лишаи, а по-настоящему поедал самого себя. И с каждым днем все глубже и глубже, все действительней и действительней. Он и сам не понимал почему он так живет. Хотя причина, вероятно, была. Имя ее — его крайне недоверчивое отношение к внешнему миру, от которого Петя воздерживался принимать даже пищу.
К миру Петенька относился с подозрением, как к чему-то бесконечно оскорбительному, хамскому, и скорее готов был дать разорвать себя на куски, чем принять от мира что-нибудь существенное. Последнее для него было равносильно религиозному или скорее экзистенциальному самоубийству. Даже когда дул нежный весенний ветерок, Петенька настораживался, если замечал его.
Обычно же старался ничего не замечать, существуя в самом себе как в люльке; даже пищу он воспринимал лишь как нечто твердое и несъедобное из тьмы. Потому и поедал самого себя. Сначала это было для него просто необходимостью, но последнее время он стал находить в этом судорожное, смрадно-убедительное удовольствие. Тогда-то он и перешел от соскребывания к более непосредственному самопожиранию. Это придавало ему — в собственных глазах — большую реальность. Точно он углублялся в свою бездну-люльку.
В связи с этим переходом — однажды ночью, когда выл ветер, который Петенька не отличал — у него появилось особенно яростное желание впиться в себя. Изогнувшись, он припал к ноге и надкусил; кровь долго, теплой струйкой лилась через помертвевшие губы, и ему казалось, что он уже совсем закрылся, что не стало даже обычной тьмы, окружающей его. «Вглубь, вглубь», — шептал он своим губам и льющейся крови.
Эти акты точно совсем похоронили его. Пока на Сонновском дворе разыгрывались странные мистерии, Петенька припадал к самому себе, останавливаясь для этого, как припадочный во сне, где попало. Но никто как-то не замечал его состояния. Лишь иногда девочка Мила натыкались на него, скрюченного, но «видя» она ничего «не видела».
И бледное лицо Петеньки совершенно извратилось. Он только дышал в свою кровь. Весь изрезанный он шатался из угла в угол, уже не присутствуя. Но ему хотелось углубиться дальше, во внутрь, и он туда добирался… Дело явно шло к смерти, которая ассоциировалась у него с последним глотком.
Однажды утром, как раз через несколько дней после того как в гнезде появился Федор с Михеем, Петенька встал с твердым намерением съесть самого себя. Он не представлял явно, как он это будет делать. То ли начнет отрезать от себя части тела и с мертвым вожделением их пожирать. То ли начнет с главного и разом, припав к самой нужной артерии, впившись в нее, как бы проглотит себя, покончив с жизнью.
Но он слишком слаб от предыдущего самопожирания, голова кружилась, руки дрожали. Сморщенно посмотрел из окна на высокие деревья и на миг увидел их, хотя в обычное время ничего не различал. Задвинул занавеску. И вдруг вместо того, чтобы ранить и есть себя, вгрызаясь в тело, упал и стал лизать, лизать себя, высовывая язык, как предсмертная ведьма, и облизывая самые, казалось, недоступные и интимно-безжизненные места.
Глаза его вдруг побелели, стали как снег, и казалось, в нем уже ничего не осталось, кроме этого красного, большого языка, как бы слизывающего тело, и пустых, белых глаз, во что это тело растворялось.
Иногда только у затылка ему слышалось исходящее из него самого невиданное пение, вернее пение невиданной «радости», только не обычной, земной или небесной радости, а абсолютно внечеловеческой и мертвенно-потусторонней.
Лизнув плечо, Петенька испустил дух.
Труп обнаружили часов в двенадцать.
Смерть Петеньки сразу же околдовала всех окружающих. Дед Коля улизнул на дерево и долго смотрел оттуда пустыми глазами. Девочка Мила задумалась. Клавуша на крик: «смерть, смерть!» выскочила на двор, в кухонном переднике и с помойной тряпкой в руке. Казалось, она хотела отереть лоб Петеньки этой тряпкой, чтобы согнать привидения. Приезжие — Падов, Анна и иже с ними — тоже зашевелились, почувствовав родное. Один Федор по-настоящему завидовал Петеньке: он завидовал ему, когда тот жил, высасывая из себя прыщи, и тем более завидовал теперь, когда Петя умер. Он один по существу понял, что Петенька съел сам себя. «Далеко, далеко пойдет Петя… в том миру, — с пеной у рта бормотал Федор. — Это не то что других убивать… Сам себя родил Петя». Федор отделился ото всех и стоял в углу за деревом, механически-мрачно откусывая с него кору…