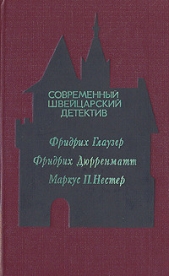Homo Фабер. Назову себя Гантенбайн

Homo Фабер. Назову себя Гантенбайн читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обиделся ли Вильямс на то, что я не летел как всегда, а прибыл на этот раз — заметьте, в виде исключения — на теплоходе, не знаю; его намек, будто я очень нуждаюсь в отдыхе, мог звучать только иронически — я загорел, как никогда, да и худощавость моя несколько сгладилась после обжорства на теплоходе, и к тому же, повторяю, я загорел…
Вильямс разговаривал со мной как-то странно.
Потом, когда кончилось заседание, я пошел в ресторан, где прежде никогда не бывал, пошел один; стоило мне подумать о Вильямсе, как у меня портилось настроение. Вообще-то он не был мелочен. Неужели он думает, что в Гватемале или в другом каком-нибудь месте я завел любовную интрижку (loveaffair)?
Его смешок меня обидел — ведь, как я уже говорил, во всем, что касалось работы, я был воплощенной добросовестностью; никогда еще — и Вильямс это отлично знал — я из-за женщины не опаздывал ни на полчаса. Но больше всего меня злило то, что его недоверие, или как там это еще назвать (почему он все твердил: «It’s okay»?), меня задело и уязвило настолько, что я не мог думать ни о чем другом, официант стал обращаться со мной как с идиотом.
— Beaune, monsieur, c’est un vin rouge [64].
— It’s окау, — сказал я.
— Du vin rouge, — сказал он, — du vin rouge avec des poissons? [65]
Я просто забыл, что заказал, у меня было другое в голове, и тут не из-за чего заливаться краской, но меня взбесило, что этому официанту (словно он обслуживает какого-то варвара) удалось меня смутить. В конце концов, у меня нет никаких оснований для комплекса неполноценности, со своей работой я справляюсь, я не гонюсь за лаврами изобретателя, но, уж во всяком случае, занят, как мне кажется, не менее нужным делом, чем баптист из Огайо, который все смеялся над инженерами, я руковожу монтажом турбин, стоящих миллионы, и построил уже немало электростанций, работал в Персии и в Африке (Либерия), в Панаме, Венесуэле и Перу, и я вовсе не витаю в небесах, как, видимо, считает официант.
— Voilà, monsieur [66].
Это всегда целый спектакль — торжественно приносят бутылку, тут же откупоривают ее, наливают глоток на пробу и непременно спрашивают:
— Il est bon? [67]
Ненавижу чувство неполноценности.
— It’s окау, — сказал я, но не оттого, что дал себя запугать, я отчетливо уловил запах пробки, просто не хотел ввязываться в спор.
Голова моя была занята другим.
Я оказался единственным посетителем — было еще рано, — и меня крайне раздражало зеркало напротив моего столика, зеркало в золоченой раме. Стоило мне поднять глаза, как я видел свое отражение, похожее на старинный фамильный портрет: Вальтер Фабер, уплетающий салат, в золоченой раме. У меня были круги под глазами, и только, но в остальном я выглядел — я уже это говорил — просто отлично: черный от загара и не такой худущий, как обычно. Я ведь мужчина во цвете лет (это я знал и без зеркала) — правда, седой, но зато со спортивной фигурой. Я не завидую красавцам. То, что мой нос немного длиннее, чем надо, волновало меня лишь в годы полового созревания, а с тех пор нашлось достаточное количество женщин, которые помогли мне избавиться от ложного чувства неполноценности; и раздражал меня теперь только этот зал, где повсюду, куда ни глянь, были зеркала — отвратительное зрелище, — да еще бесконечное ожидание, пока мне принесут рыбу. Я выразил свое недовольство; хотя я никуда не спешил, меня мучило ощущение, что официанты пренебрегают мной, сам не знаю почему; совершенно пустой ресторан с пятью официантами, которые шептались друг с другом, и один-единственный посетитель — Вальтер Фабер, который крошит хлеб, — в золоченой раме, куда ни глянь, всюду мое отражение; рыба, когда ее наконец принесли, оказалась превосходной, но мне почему-то есть ее не хотелось, не знаю, что со мной случилось.
«You are looking like…»
Только из-за этого глупого замечания Вильямса (при всем том он меня любит, я это знаю) я все снова и снова, вместо того чтобы есть рыбу, глядел в эти дурацкие зеркала, в которых видел свое восьмикратное отражение.
Конечно, с годами стареешь…
Конечно, начинаешь лысеть…
Я не привык ходить по врачам, никогда в жизни я ничем не болел, если не считать аппендицита, — я глядел в зеркало только потому, что Вильямс сказал: «What about some holidays, Walter?» При этом я загорел, как никогда. В глазах девочки, которая хотела стать стюардессой, я был, возможно, человеком солидным, но не уставшим от жизни, напротив, я даже забыл, приехав в Париж, пойти к врачу, как собирался.
Я чувствовал себя совершенно нормально.
На следующий день (это было воскресенье) я отправился в Лувр, но девушки с рыжеватым конским хвостом там не увидел, хотя и проторчал в этом Лувре битый час.
Мою первую близость с женщиной, самую первую, я, можно сказать, совсем забыл — точнее, я вспоминаю о ней, только когда заставляю себя вспомнить. Эта женщина была супругой моего учителя, который часто приглашал меня той весной, перед самыми экзаменами на аттестат зрелости, на субботу и воскресенье к себе домой; я помогал ему читать корректуру нового издания его учебника, чтобы немного подработать. Моей страстной мечтой был тогда мотоцикл, я собирался приобрести его по случаю — пусть какой угодно, только бы ездить. В мои обязанности входило чертить тушью геометрические фигуры к доказательствам теорем — «пифагоровы штаны» и тому подобное, потому что по геометрии и вообще по математике я был первым учеником в классе. Его супруге, с точки зрения моего тогдашнего возраста вполне солидной даме, было, я думаю, лет сорок, она болела туберкулезом легких; и когда она покрывала поцелуями мое мальчишечье тело, она казалась мне то ли буйно помешанной, то ли ошалевшей сукой. И до и после я называл ее «госпожа профессорша». Это было абсурдно. От раза к разу я забывал о наших отношениях; только когда математик входил в класс и молча клал на кафедру стопку тетрадей, меня охватывал страх, что он узнал об этом и что теперь об этом узнают все. Чаще всего, раздавая работы, учитель называл мое имя первым, как единственного, не сделавшего ни одной ошибки, и я должен был продефилировать с тетрадкой по всему классу. Она умерла тем же летом; и я забыл все это, как забываешь воду, которой когда-то утолил жажду. Конечно, я казался себе подонком оттого, что забыл, и заставлял себя раз в месяц приходить на ее могилу. Убедившись, что никто меня не видит, я вытаскивал из портфеля жалкий букетик и торопливо клал его на свежую могилу, где еще не было памятника — только номер; при этом меня терзал жгучий стыд, ибо всякий раз я радовался, что все, что было между нами, уже кончилось.
Только с Ганной это никогда не казалось абсурдным…
Была весна, но почему-то шел снег, когда мы сидели в саду Тюильри; снежные хлопья и голубое небо; мы не виделись почти неделю, и мне показалось, что она рада нашей встрече, хотя бы ради сигарет — у нее явно уже не было ни гроша.
— Да я никогда и не верила, что вы не ходите в Лувр, — сказала она.
— Во всяком случае, очень редко.
— Редко! — И она рассмеялась. — Позавчера я вас видела в Античном зале, и вчера тоже.
Она и в самом деле была ребенком, хотя и курила без передышки; она всерьез считала, что мы случайно встретились в Париже. Она была по-прежнему в черных джинсах и тапочках, но в коротком пальто с капюшоном, конечно, с непокрытой головой, сзади болтался рыжеватый конский хвост, а с безоблачного неба, как я уже сказал, падали хлопья снега.
— Вам не холодно?
— Нет, — ответила она, — но, может, вам?
В 16.00 начиналось вечернее заседание.
— Выпьем кофе? — спросил я.
— О, с большим удовольствием!
Когда мы пересекали площадь Согласия, нас подстегнул свисток полицейского, и она схватила меня за руку. Этого я никак не ожидал. Нам пришлось побежать, потому что полицейский махнул своим белым жезлом и на нас ринулась целая свора машин. Уже оказавшись на тротуаре, но все еще держась за руки, мы вдруг обнаружили, что я потерял шляпу — она лежала теперь посреди мостовой, в коричневой снежной жиже, расплющенная автомобильным светом. «Eh bien! [68]» — сказал я и пошел дальше, держа девочку за руку, тоже, как мальчишка, с непокрытой головой, несмотря на снег.