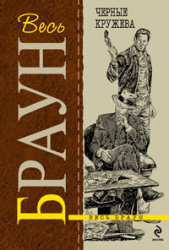Плод молочая

Плод молочая читать книгу онлайн
Герой всю жизнь любит одну женщину — Анну. Мы застаем его в тот момент, когда он обнаруживает, что репрессии, которые когда-то прокатились по стране, коснулись и его родственников. Волей случая он начинает расследовать историю своего отца и деда. И постепенно приходит к выводу, что в юности их счастье с Анной не было возможно, потому что он был сыном репрессированного. И только много лет спустя они встретились вновь и поняли, что все эти годы ждали этого. События, описанные в романе, происходят начиная с 1985 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как поживаешь? — последовал вопрос-преамбула допроса-разговора.
— Неплохо... — ответил я со стойкостью доблестного разведчика.
— А я думала... а я думала...
Оказывается, мы умеем думать... Интересно.
— А я думала, что еще не все забыто...
О-ля-ля! — речь первоклашки за углом. Уж не жалеем ли мы кое о чем?
— Мы многое с тобой упустили... — наконец выложила она цель своих усилий. — А?
Вот здесь я едва не поперхнулся пивом, и это избавило меня от глупого ответа (а ее от преждевременных слез). Зато пауза вышла, как говорится, со значением, и я тянул ее и тянул и выжал все, что можно было выжать даже из моей бывшей жены.
После этого она спеклась.
— Возможно... — затравленно произнесла она, — я не всегда была права... — и нотки в голосе были уже не так напористы. — Но ведь и ты не ангел. Не ангел? — потребовала она подтверждения, стараясь совместить несовместимое. Ее взгляд со временем из пустого стал циничным и тусклым, но спеси в нем не поубавилось, наоборот.
— Не ангел, — согласился я миролюбиво и сделал глоток, отдышавшись, и почувствовал, как холодный комок понижает температуру пищевода, а потом и желудка.
Она поняла, что с этой стороны меня не пронять и вспомнила о сыне.
— Мальчику нужен настоящий отец. Он совсем отбился от рук. Покуривает. Девочки его интересуют. (А ты бы хотела, чтобы он вырос таким же пресным, как и ты.) Недавно нарисовал на парте женщину с гипертрофированно-огромной грудью. Спрашиваю, зачем, мнется, не говорит. Что он, дурак?.. Этот мой, совсем для него не авторитет. Недавно иду с работы, стоят на балконе — дымят на пару. Он с ним заигрывает, обещал после школы машину купить. Какие-то компании. Захожу в комнату, при мне молчат, словно заговорщики, тайны у него, вечером домой не загонишь. За глаза старухой называет, сама слышала — "моя старуха". Как тебе, приятно? (Мне было приятно). — Она примолкла, привела в действие ресницы, и на щеки упали хлопья туши. Пока ресницы делали свое дело, я отдыхал. Я отдыхал душой и телом — премиленькое дельце, скажу вам, если на вас смотрит полуголая женщина, вся одежда которой состоит из куска яркого шелка и двух бретелек на смуглых плечах, теоретически (авансом) готовая устранить и этот спорный недостаток. Но потом вернулся из заманчивого отвлечения — все стало на свои места — и продолжал слушать. — Страшная тоска... Куда-то не туда идем. А? (И в этом напомнила мою мать.) Может, я и в самом деле старуха, ничего не понимаю. Бессонница появилась. Мой-то по утрам бегает. Натянет майку и трясет себе. А я? Мне уже кажется, что я с ним одного возраста. Куда ни пойдем, одни старцы. Ухаживают галантно, слов нет, но тоска страшная. Одни разговоры, как бы кого подсидеть да о болячках... — Она и в девичестве не блистала остроумием. — Аспирин глотают от простаты и норовят прижаться к тебе в лифте.
— Но ведь ты этого хотела? — вставил я словечко.
— Да неужто этого! Разве об этом мечтала?! — воскликнула она. — Разве назначение жены в этом...
— Крошка, — сказал я. — Десять лет...
— Девять... — поправила она.
— Ну ладно — девять лет мы не могли найти общий язык. А теперь ты вдруг вспомнила о назначении жены...
Видит бог, я не хотел ничего напоминать, но она сама вынудила.
Она сильно обиделась. Вцепилась в подлокотник, и взгляд ее пополз по стене, потом опустился, обойдя меня, на колени, и она потерла ладонью переносицу, что служило сигналом к слезам или, по крайней мере, к легкой истерике.
Последние ссоры носили грандиозный характер. Нет, я не застал их в постели и не выследил в машине где-нибудь за городом. К тому времени мои атавистические чувства собственника сменились чувством самосохранения — нет. Но она приволокла в качестве защитника своего нынешнего мужа, тогда еще не мужа, а только представительный экземпляр весом килограммов на сто шестьдесят с седой театральной шевелюрой и твердым намерением в глазах осадить мужа-изверга. Но по мере того, как моя жена демонстрировала свои способности, а демонстрировала она их не больше чем на одну треть, выражение в них менялось; и когда она кричала: "Разве ты муж! Ха-ха-ха! Разве предназначение жены обстирывать тебя!" (она особенно упирала на свое предназначение), я прочел в них то, что толкало ее сейчас на эти разговоры, но для того, чтобы то выражение в его глазах превратилось в решение, надо было, чтобы прошло достаточно времени.
— Ты воображаешь, тебе что-нибудь достанется с их стола? — зло поинтересовалась моя бывшая жена. — Как же, дожидайся. Ты думаешь, твой будущий тесть тебе чем-нибудь поможет? Как же, его колючая татарка так и позволит! Ха-ха-ха!
— Помолчи! — сказал я. — Иначе...
— Что иначе?!
— Ничего... — сказал я, — просто ничего.
— Нет — что иначе!.. — заводилась она.
Но в этот момент на балкончик вошел он — пятидесятисемилетнее светило — профессор и декан. В светлом костюме, сидевшем на нем, как на литом монументе — без складочек и всяких там приспособлений типа подтяжек, и со своими камушками в желчном пузыре. Очень моложав. И я, признаться, даже залюбовался.
Он помял ее за плечо, посмотрел с высоты своего Олимпа, сияя, как солнце, и сказал:
— Может, искупаемся, дорогая. Жарко... — и увел, а я наблюдал сверху, как эти Некрофаги погружают свои тела в светлую воду.
Не очень-то приятное зрелище для нормального человека.
Потом я ушел. Вышел на пластилиновое шоссе, проголосовал и уехал домой. Меня едва не стошнило.
Глава седьмая
Дело мое с изданием зашло в тупик. Что тому оказалось виной? Может быть, разногласия с руководством Союза писателей в нашем городе по вопросам социалистического реализма, суть которых заключалась в отрицании тех явлений в армии, о которых шла речь в одном из рассказов, или же просто сожаления о ранее выданной рекомендации в издательство, или иные конъюнктурные соображения, диктуемые личными интересами. Так или иначе, но когда месяца два спустя после памятного разговора с отчимом я посетил издательство, в разговоре с редактором мне почудились знакомые нотки. Так бывает — ухо ненароком улавливает звуки фальши, но которые вначале не кажутся фальшью, а только — легким осадком на душе, нечто вроде нагара, незаметного, прилипчивого, к которому привыкаешь или смиряешься, ибо человек слишком гибкое существо и в этом его величие и падение. Но нагар или осадок имеют свойство накапливаться, пока однажды ты не начинаешь чувствовать, что что-то в жизни мешает, сковывает по рукам и ногам, заглатывает, впитывает; и ты берешь платок или ведешь разговор и обнаруживаешь на белом ворсе грязь, а в разговоре — оскомину, — вот это и есть фальшь. И тогда ты думаешь, черт возьми, а не поражены ли все говорящие одной болезнью — словоблудием, все ли у них при себе в этом мире?
Вот это уже вопрос!
Дело стало, умерло, превратилось в прах и лежало жалкой кучкой тлена среди других кучек в столе редактора.
Тогда я взял справочник, отыскал фамилию на букву "Г" и позвонил. На том конце провода что-то щелкнуло и голос из мира кабинетов и мягких кресел вежливо сказал: "Приемная". Я осведомился, можно ли связаться с Анной Львовной. Голос поинтересовался, по какому вопросу. По личному, сообщил я. Опять что-то щелкнуло, пошли протяжные гудки, словно где-то во вселенной кто-то подавал сигналы бедствия, и знакомый далекий голос устало произнес: "Да?" А через полчаса я уже вступил в этот мир и спросил: "Узнаешь?" "Еще бы", — улыбнулась мне обладательница усталого голоса и, встав из-за стола, блестевшего под косыми лучами солнца, как огромный полированный каток, простучала каблучками от стола до порога, где я остановился, тряхнула меня за обе руки и сказала: "Какой ты стал... молодец!" — и повернула к свету, чтобы лучше разглядеть.
И я стоял, отдавшись двум тонким, но сильным рукам, и покорно давал себя разглядывать и ощупывать, ибо имел на это право, хоть небольшое, но право быть соучастником нашего общего события, именуемого детством. И как бы ты ни был плох или, наоборот, — хорош, тебя все равно примут с радушием и без всякого притворства, если ты родом из этого самого детства, даже если это детство прошло с человеком, с которым тебя связывают не только розовые воспоминания, с человеком, который принадлежит прекрасной части человечества и сидит в большом уютном кабинете, где благородство дерева соперничает с изысканностью стиля и вкуса, а ты всего лишь проситель, с человеком, которого ты, быть может, любил или думал, что любил достаточно долго, чтобы не забыть об этом, что, конечно же, сковывает тебя, и ты прикидываешь, как теперь выглядишь в ее глазах и правильно ли сделал, появившись через столько лет (ты ведь не хочешь быть слабым), потому что ты внезапно вспоминаешь все свои мальчишечьи привычки, выходки и ее долготерпение — умной, опрятной девочки из приличной семьи, в которой вся жизнь определена с самого рождения.