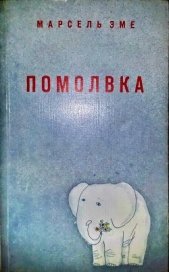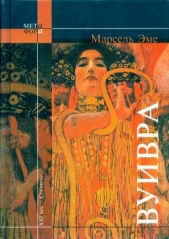Вино парижского разлива

Вино парижского разлива читать книгу онлайн
Марсель Эме (1902–1967) — всемирно известный писатель, продолжатель лучших традиций французской литературы, в произведениях которого причудливо сочетаются реализм и фантастика, ирония и трагедия. В России М. Эме известен главным образом детскими сказками и романами. Однако, по мнению критиков, лучшую часть его творческого наследия составляют рассказы, в том числе и вошедшие в этот сборник, который «Текст» издает второй раз. «Марселю Эме удается невозможное. Каждая его книга может объединить, пусть на час, наших безнадежно разобщенных сограждан, растрогать самых черствых, рассмешить самых угрюмых. У него мудры не только старики, потешны не только шуты, добры не только дурачки» (Антуан Блонден).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Твоя работа?
— Моя. Я сбываю их в лавчонки на площади Тертр и дальше. На такое покупатели всегда найдутся. А когда пришли немцы, стал выменивать их на съестное. Позавчера за одну голую красотку целый окорок получил. Но теперь таких рисунков я делаю меньше, чем прежде. Если повезет, то, наверное, смогу совсем бросить это дело.
Мартен еще некоторое время разглядывал рисунки, потом прошел в середину мастерской.
— А это?
На мольберте был писанный маслом городской пейзаж — вполне вероятно, тот самый, который они созерцали днем через витрину кафе на бульваре Бастилии. Мартен видел лишь хаотическое смешение цветовых пятен. Рисунок же был четок. Черная линия, тяжелая, как свинцовая перемычка в витраже, окаймляла здания, но цвет, выходя далеко за контуры, создавал собственную гармонию, далекую от рисунка, с которым он совпадал лишь отчасти. На полотне значилась подпись: «Жилуэн».
— Это моя настоящая работа, — ответил Гранжиль, — моя отрада и мое мучение. Мои полотна начинают продаваться, но я создаю их для себя и только для себя. Плевал я на критиков и торговцев. Нравится им это или нет, но в них я вкладываю всего себя. Свое сердце и свою правду.
Гранжиль говорил все это с пылом, неожиданным для Мартена. Маленькие глазки на его бараньей физиономии излучали уже не иронию, а воодушевление, вдохновенную и взыскательную радость. Он достал женский портрет в рамке и поставил его на мольберт. Здесь манера художника проявлялась еще нагляднее, чем в пейзаже в серых тонах. Женщина была нарисована сидящей у окна. Уверенно проступал ее четко очерченный силуэт. Поток багряного света, исходивший от букета тюльпанов, озарял половину ее лица, тогда как голубизна неба ложилась на лоб нежной дымкой, истекавшей словно из голубизны ее глаз. Цвета же, принадлежавшие, так сказать, самому лицу, выплескивались с него на оконные стекла, образовывая на них радужные пятна.
— А это тебе нравится?
— Мне это до фени, — ответил Мартен со сдержанной свирепостью.
Выражение лица у Гранжиля изменилось. В его кабаньих глазках потух огонек энтузиазма, и взгляд исполнился меланхолией. Но почти тотчас же физиономия Барана осветилась той слегка отчужденной иронией, в коей художник, похоже, уверенней всего обретал душевное равновесие.
— Быть может, ты предпочитаешь Жилуэну Гранжиля? Впрочем, не буду настаивать. Ты ведь скажешь, что на Гранжиля тебе наплевать точно так же, как и на Жилуэна, а меня это огорчит. Давай-ка подумаем лучше о чемоданах. Пока не доберемся до мясника, мы друзья по гроб жизни.
Гранжиль запустил руку в карман и, достав оттуда пять тысяч франков, которые он отобрал у Жамблье, протянул их Мартену:
— Держи, пока я не забыл. Отдашь их этому простофиле, который так легко с ними расстался. Порадуешь его.
Взяв деньги, Мартен положил их в бумажник.
— Когда мы придем к мяснику, — сказал он, — я заплачу тебе четыреста пятьдесят франков, как договорились с Жамблье.
— Если забудешь, я сам тебе напомню. А теперь садись. До отбоя тревоги я успею приготовить нам по чашке кофе.
Мартен уселся в кресло. Оставшись в одиночестве, он попытался подвести итог впечатлениям и обидам, но усталость и какое-то отвращение ко всему, даже к жизни, притупляли его умственные способности и не позволяли прийти к какому-либо выводу. То, что Баран вернул пять тысяч франков, из-за которых Мартен вышел из себя, вроде следовало бы записать Гранжилю в актив. Однако Мартен злился на этот неожиданный жест, словно чуял в нем какой-то подвох. Поступки напарника не причинили Мартену особого вреда, и его недовольство, смутное, лишенное серьезных оснований, относилось главным образом к манере того держать себя. К его озлоблению примешивалось неудовлетворенное любопытство по поводу постоянной иронии, за которой укрывался Гранжиль, и секрета двуличия, благодаря которому художник мог так легко выступать в двух ипостасях. История их знакомства представлялась ему теперь чередой неясностей и двусмысленностей. В конце концов Мартен уснул — с ощущением, что его обманули.
Вошедший в мастерскую Гранжиль остановился при виде своего спящего компаньона. Мартен храпел, приоткрыв рот и положив руки на подлокотники кресла, он сидел прямо, и его черный котелок был слегка сдвинут на затылок. Гранжиль бесшумно приблизился, открыл блокнот для эскизов и принялся рисовать. Сильно нажимая на карандаш и почти не отрывая его от бумаги, он набросал вначале поясной контур туловища, а затем с той же тяжеловесной, но уверенной медлительностью изобразил круглую физиономию Мартена. Похоже, Гранжиль остался доволен своей работой. И не только потому, что портрет получился похожим: он решил, что сумел выразить в этом наброске внутреннюю сущность Мартена, которую до сих пор предощущал и почти разгадал, не будучи в состоянии определить точно. Глядя на рисунок, он, как ему показалось, понял, что мужская честность — это чувство верности самому себе, вызываемое уважением к собственному образу, каким он отражается в зеркале социальной жизни. По его мнению, это было справедливо и для Мартена, и для всех носящих гордое звание среднего француза. Что касается самого Гранжиля, то он, считая себя тоже человеком честным, был убежден, что повинуется соображениям более высокого порядка, не нуждающимся в этом зеркале, и пользовался им лишь изредка, как бы для контроля. Шутки ради он дополнил свой набросок, пририсовав массивную серебряную подкову, приколотую к галстуку, и подписал внизу листа дату. Когда он закрывал блокнот, раздался телефонный звонок. Мартен проснулся, с удивлением огляделся и поправил на голове котелок. Аппарат стоял на столике шагах в трех от кресла, в котором он сидел.
— Луиза? — говорил Гранжиль. — Добрый вечер… Меня тут не было, я устроил себе вечер отдыха… Нарядился гангстером… честное слово, не смейся, я даже принес неплохую добычу. Я играл роль злодея, анархиста, законченного негодяя… Чрезвычайно забавно, уверяю тебя… Вовсе нет, это, напротив, очень легко, слишком легко. Тиранами становятся самые добрые, я всегда так считал… Что? Нет, не стоит преувеличивать. Так, опереточный громила. Должен тебе сказать, я играл еще и демона-искусителя… как раз нет… Тем более что под конец я даже расчувствовался…
Не отнимая трубки от уха, Гранжиль обернулся. Позади него стоял Мартен и пристально смотрел на него.
— Мразь, — кратко произнес Мартен.
— Я расскажу тебе обо всем завтра, — заторопился Гранжиль. — Надеюсь, ты повеселишься не меньше, чем я. Хотя, по сути, это скорее печально… Хорошо… Минутку…
Мартен схватил трубку, пытаясь вырвать ее у него из рук.
— Я скажу ей пару слов, твоей потаскухе.
Гранжиль не стал сопротивляться и нажал на рычаг, прервав разговор. Мартен с такой яростью швырнул трубку на пол, что она раскололась.
— Подонок, теперь я все понял. Выходит, ты решил надо мной поизгаляться. Я-то принял тебя за неудачника, хотел помочь тебе, а ты — ты посмеивался в кулак, думая о своем счете в банке. Уже одно это подлость. Ты обязан был отказаться, оставить эту работу тому, кто в ней в самом деле нуждался. Но господину вздумалось прогуляться по ночному Парижу. Господин искал приключений. На улице Лапп все позакрывали, и тебе этого недоставало. Повтори же это, подонок, повтори, что ты играл злодея, главаря…
— Мартен, не сердись. Сейчас я тебе все объясню…
Гранжиль хотел снять с себя обвинение в дешевом дилетантстве — самом постыдном, самом непростительном преступлении в глазах человека, трудом зарабатывающего себе на жизнь и имеющего преувеличенное представление о значимости если не роли своей, то действий. «Нет, — думал он, — я пошел с ним в погреб не как дилетант; я поддался серьезному, чисто человеческому любопытству, и то же самое любопытство толкнуло меня на эту проделку с Жамблье, стремление не довольствоваться первым впечатлением, а копнуть глубже, взбаламутить это болото». Тем не менее он не сказал это вслух, осознавая в глубине души, что в его поведении было нечто от игры или, по меньшей мере, от поисков эстетического наслаждения.