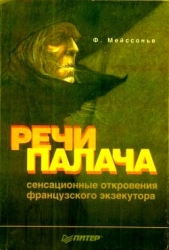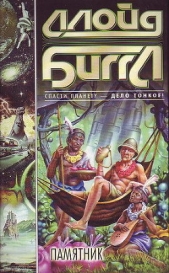Евангелие от палача

Евангелие от палача читать книгу онлайн
Роман «Евангелие от палача» — вторая часть дилогии (первая — роман «Петля и камень…» — была опубликована в конце 1990 года), написанной в 1976–1980 гг. Написанной и надежно укрытой от бдительного «ока государева» до лучших времен.
"Мы, кажется, уже привыкли к тому, что из глубин советского безвременья нет-нет, да и всплывет очередной литературный «памятник» — сталинской ли, хрущевской или брежневской эпохи…
«Памятник», лишь за чтение которого читатель мог тогда поплатиться свободой; ну а писатель ставил на карту всю жизнь. Сейчас эти открытия закономерны: перестроечной революцией нарушена омерта всеобщего покорного безмолвия, и благодарный читатель получает, наконец, то, что у него долгие десятилетия силой отнимал тоталитаризм. Предлагаемый сегодня роман «Евангелие от палача» — вторая чисть дилогии (первая — роман "Петля и камень… " — была опубликована в конце 1990 года), написанной нами в 1976-1980 годах. Написанной и — надежно укрытой от бдительного «ока государства» до лучших времен. К счастью, и авторы, и читатели до них дожили. Все остальное — в самом романе.
Аркадий ВАЙНЕР, Георгий ВАЙНЕР
Декабрь 1990 года МОСКВА
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Где ты, маячный смотритель, указчик фарватера к финской моей покойной койке?
Где ты, дорогой мой баварский вологодец Тихон Иваныч? Почему не машешь фонарем с кирпичной пристани подъезда, почему не встречаешь мою залитую до краев лодчонку, еле выгребающую из бурных волн мартовских луж? Выстывший предбанник адской котельной. Мокрый ветер пахнет землей и серой. Бросайте причальные концы, спускайте трап. Я хочу с жадностью вглядеться в прозрачные голубые глаза моего бакенщика в подъезде, погладить белые, нежные, чуть растрепавшиеся волоски моего верного сторожевого, бессменного моего на вахте, ласково стряхнуть пыль с его оттопыренных чутких ушей. Верный мой, бесстрашный заградотряд. Услышать его голос, тихий и внушительный, как спецсообщение:
— Гости у вас в дому… Давно… С час, как пришли. Какие гости? Мы в гости не ходим и к себе не зовем. Мы дружим в ресторанах. С теми, чью жену можно трахнуть. Никто больше не дружит домами. Дружат дамами.
— Дочерь ваша… с тем самым… на такси приехали… я вам на всякий случай номерок запомнил. ДО УТ Д ЭС. ДАЮ, ЧТОБЫ И ТЫ МНЕ ДАЛ. Расширение обмена информацией, программа ЮНЕСКО. Дорогой мой трехглавый вологодский Цербер, неутомимый страж лагерного Аида, мне не нужен номерок такси. Я и так знаю номерок моего эвентуального зятя. Записан он где-нибудь в картотека Приблизительно так: 0-0-7.
Летит наверх коробка лифта, качается во тьме. Лебедка с визгом жует тросы, рокочут шкивы, щелкают реле. Спирт шипит, выгорает алыми, синими язычками в желудочках сердца. Далеко еще до моего дня рождения, целый год. Я юркнул меж днями, затесался между листочками календаря, спрятался в астрономической раковинке. Не выковырнете вы меня оттуда! Кишка тонка Вы меня плоховато знаете. Я на Кривого Касьяна родился, четырнадцать лет високосных отстоял — один против всех, и всю эту распроклятую жизнь по кривой касательной мчусь.
Мне какого-то поганого Истопника бояться? И тебя, говенный империалист, родственничек хренов из Топника, тебя тоже раком поставлю! Нет у вас еще силы против Хваткина! Моя карта старше. У меня в сдаче всегда будет больше козырей. Когда Господь нам на кон, стасовав, раздавал, я у него под левой рукой сидел. Не-ет, уважаемые господа и дорогие товарищи, не физдипините зазря! Моя карта старше!
Не находя в кармане ключей, я изо всей силы давил кнопку дверного звонка и быстро, рывком оборачиваясь — на всякий случай, — бормотал, грозился, уговаривал себя:
— Не выеживайся. гнойный Истопник, не припугивай, сука, не взять тебе меня на понт, потрох рваный, я твою дерьмовую котельную пахал в поддувало…
— Что — встревоженно спросила Марина, распахнув дверь. — Хрен через плечо! — рявкнул я находчиво и влетел в прихожую, чуть ее с ног не столкнул, но сзади спасительно щелкнул стальной язычок замка. Иди достань меня теперь, сучара Истопник, в моем хоуме, который и есть мой кастль. Жалко лишь, гарнизон в моей крепости говно. Корыстные глупые наемники, идейные предатели. Они хотят впустить в мою двухкомнатную Трою деревянную лошадь. О безнадежность обороны кооперативной крепости на берегу Аэропорта, из которого никуда не улетишь!
Я, ответственный квартиросъемщик Трои
123 на шестнадцатом этаже, расчетный счет во Фрунзенском отделении Мосстройбанка, изнасиловал и пленил вашу замечательную красавицу, а потом учинил Иудейскую войну. Допустим. Но я не убивал вашего Ахилла. Я убил своего сына Гектора. Вы знаете об этом? Нет?
Вот знайте. Об этом известно только одному человеку. Ну, может быть, еще двоимтроим. Теперь знаешь и ты. Истопник. Может быть, хватит? Давай все забудем. Тогда сможем помириться. Я хочу дожить до старости — мне всего четырнадцать моих високосных лет. Я хочу снова… — Снова напился, скотина?
— звенящим шепотом спросила Марина. Неподдельный звон страсти, так звенит ее голос в бессловесном стоне, когда я пронимаю ее в койке до печенок и она жадно и зло кончает, уже жалея, что это удовольствие схвачено, а будет ли снова — неизвестно. — Напился, моя ненаглядная, — признался я. — Напился, моя розовая заря. Мне плохо, я устал. Идем в койку, раздень меня… — Раздеть тебя? — Сорванный беличий помазок пролетел мимо и исчез в звоне воздуха, который высекал из тишины красный хлещущий крысиный хвост. — А где твои кальсоны, сволочь? Кто раздевал с тебя сегодня ночью кальсоны? Она сделала огромную паузу, которая должна была пронзительно скрипеть и тонко выть от нашего душевного напряжения. Где их, паскуд, учат системе Станиславского? И снопа затхлый воздух прихожей треснул, гикнул, зазвенел, располосованный красной нагайкой ее крысиного хвоста. — Где твои кальсоны?!
Где, действительно, мои кальсоны? Далекий одноглазый штукатур! Разве ты сторож кальсонам моим? Что ты сделала с ними? Ты могла их продать. Поменять на французский бюстгальтер. Выкинуть. Можешь сама носить — в морозы они тебе ох как пригодятся А можешь набить их ватой и поставить в изголовье, как поясной бюст. В смысле — ниже пояса. Всунешь в гульфик отвес ливерной колбасы, и мой нижепоясной скульптурный портрет готов. Композиция «Юный романтик на станции Лианозово». Музей Гугенхейма в Нью-Йорке купит за большие деньги, а ты, мой похотливый циклоп, бросишь штукатурить в котельной и уедешь с женихом из Топника на Запад. — Где твои кальсоны?! — Они развеваются над куполом Рейхстага… — сообщил я обреченно — Я донес их, водрузил и осенил. Все остальные погибли. я вернулся один. Отпихнул свою неразлуяную, голубую, нерасторжимую и вошел в гостиную. А там уже стоит на столе Троянская лошадь. Называется почему-то «Белая». Разве Троянская лошадь была белая? Она, скорее всего, была гнедая. Или каурая. Каурый уайт хорз.
Добрый кукурузный каурый уайт хорз. Чуть запотевший в тепле. И фураж на тарелках заготовлен: миндальный орех, апельсины с черными наклеечками на желтых лбах, как у индийских красавиц. Все готово. И десантная группа, штурмовой отряд уже выполз из лошади наружу: сидят, раскинувшись в низких креслах, — любимая дочечка Майка, кровиночка моя, неразлучная со мной — в пределах нашей Родины, — и мускулистый черноватый гад, весь в кудрях, брелочках, цепочках и браслетах. Ишь, тоже мне, сыскался фрей с гондонной фабрики! Рано выползли, сукоеды! Я еще не сплю, вырезать беспечный гарнизон моего кастля хрен удастся!
— …Очень, очень, очень рад! — сказал я ему. — Много, много, хорошо наслышан!
Вот Бог дал и лично поручкаться! Уж давай, сынок, по-нашему, по-русскому, по-простому обнимемся, расцелуемся троекратно! Мы ж с тобой теперь вроде родственники.
Как говорится: мир — дружба! Хинди — немцы, жиди — руси, бхай-бхай!
И целовал его, пидора этакого, смачно, взасос, со слюнями, с сопением — пусть, курвоза, понюхает перегар наш самогонный, пусть он вонь и слизь с меня слижет, пущай надышится смрадом одесского коньяка, тухлой закуски, непереваренной блевотины, пота стекляшки, пусть понюхает дыма серного от Истопника, плесени Ведьманкина. Ничего, молодец гаденыш! Ухом не ведет, не морщится, смеется, по спине меня весело хлопает. «Немцы — руси тоже бхай-бхай», — говорит. — А ты, дочурочка, ягодка моя, чего с папанькой не здороваешься? — спрашиваю Майку, глаз ее ненавидящий из-за его плеча высматриваю.
— Слушай, Хваткин, кончай! Все поцелуи уже отцелованы, довольно здороваться!
— Ой, донюшка ты моя, сладкая, чего ж ты такая грубая? Молодой человек, зять наш будущий, может подумать бог весть что. Будто ты папаньку своего не ценишь, не любишь, авторитету родительского он у тебя не имеет. Как же семью здоровую, социалистическую строить будем? Как подтянем идейно отсталого родственничка до нашего зрелого политического уровня? А-а?… — Перестань юродствовать. Надо поговорить по-человечески.
— Господи Боже ты мой премилостивый! А я нешто не по-людски? Разве я по-звериному?
Я ведь всей душою к вам повернут. Всей своей загадочной славянской душою вам открыт! Вы мне только словечко скажите — да я за вас, за ваше счастье, за ваш зарубежно-личный союз, за разрядку меж ваших народов из окна прыгну, руку до плеча срублю, жену нежнолюбимую Марину вам подарю… А ты меня, доченька-ангелица, только пообидней ширнуть, кольнуть, уязвить хочешь! Нехорошо это, роднуленька.