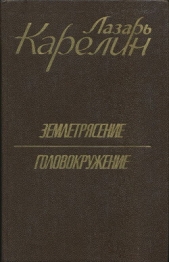Corvus corone (СИ)
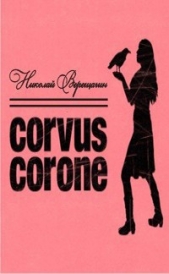
Corvus corone (СИ) читать книгу онлайн
Если, проходя под старым дубом, ты захочешь подпрыгнуть и ухватиться за толстую ветку, не спеши исполнить свое желание: ведь и ты можешь оказаться в положении главного героя романа — Вранцова.
Что это страшный кошмар или кошмарная явь? Неужели ему, Вранцову, предстоит теперь жить в образе Corvus corone — большого черного ворона? Отныне он в делах людских — незаинтересованное лицо. И за что это ему? Может быть для того, чтобы в теле птицы попробовать осознать, а правильно ли он жил, будучи человеком?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XIII
Когда в тот вечер у Везениных Коля упомянул, что пишет книгу, на Вранцова это не произвело особого впечатления. Какой гуманитарий в наше время не держит рукопись в столе? Две–три тощие пожелтевшие тетрадки с выписками, планами и набросками, которые годами лежат, поскольку до настоящей работы все руки не доходят. У него и самого валялась такая в дальнем ящике стола. Но приятно было намекнуть на свою редакторскую опытность, свое положение в издательстве, и он сказал тогда Везенину: «Ну, что ж, закончишь — приноси. Посмотрим, подумаем…»
Сказал и забыл. Но зимой Везенин явился вдруг с рукописью. «Ты не подумай, что я, так сказать, знакомством воспользоваться хочу, — сидя в редакции, объяснял он неловко. — В общем–то, она все равно бы у вас оказалась. Сам знаешь, по нашему профилю только одно издательство… Если тебе неудобно, пусть другой редактор возьмет.
Но в любом случае хотелось бы услышать твое мнение: ты ведь когда-то у Лужанского тоже этими проблемами занимался…»
Рукопись была внушительная («листов на двадцать», — прикинул
Вранцов), в новенькой коленкоровой папке с голубыми тесемочками и оформлена по всем правилам, перепечатана чисто. «Глаша постаралась, — пояснил Везенин. — Вся техническая работа ее. Да и справки, выписки. Так в эти проблемы влезла, почти переквалифицировалась в социолога». Еще он сказал, что послал второй экземпляр профессору Ямщикову на отзыв. «Держи карман шире, — скептически подумал тогда Вранцов, зная вечную занятость и желчный характер Ямщикова. — Добро, если хотя бы полистает. Да и то, скорее всего, ругнет. Но Коля, смотри–ка, не мелочится. Если такая фигура, как Ямщиков, поддержит, тогда конечно…»
Все это время они не виделись, даже не созванивались ни разу.
Вранцов помнил ту свою встречу с Везениным и не оставил мысли встретиться еще, может быть, даже в гости позвать. Но поскольку, вращались они в разных сферах и деловых контактов не было никаких, все как–то не получалось: времени не хватало созвониться, спланировать. Другие дела, другие встречи. И снова в который уж раз подивился бегу времени. Казалось, всего лишь на прошлой неделе сидел у Везениных, пробовал тыкву, запивая дешевым «Эрети» — а глянь–ка, чуть ли не полгода прошло.
Везенин был все такой же подтянутый, но выглядел неважно. Может, летний загар сошел, но лицо бледное, усталое, под глазами круги; и голос какой–то глухой, притухший. Да и одет был похуже, во все поношенное. Шнурок на правом ботинке перетерся и был наскоро связан грубым узлом. Заметно было, что в редакционной обстановке он чувствует себя не очень–то уверенно, что она непривычна ему. Вранцов же, наоборот, ощущал себя здесь хозяином, и настроение было хорошее. На этот раз больше он говорил, а Везенин слушал, сидя перед ним на стуле для посетителей. Вранцов тогда подробно объяснил ему, как все эти дела делаются: что нужны, как минимум, две рецензии (одна члена редсовета), потом будет «редзак», то есть редакционное заключение, что после этого, если рукопись принята на всех уровнях, ее включат в издательский план, и т. д. Предупредил, как всегда, зная нетерпение авторов, что дело это долгое, что рукописями они завалены («Деваться от них некуда», — показал на забитый доверху шкаф.) В общем, пусть звякнет месяца через три–четыре, но окончательно где–нибудь через полгода положение прояснится.
Рукопись лежала на столе, и, поглядывая на нее, думал: «Ничего себе кирпичик Коля сварганил! Вот что значит, есть у человека свободное время — не выкладывается на службе, в «Ленинку» ходит. Хотя, в общем–то, дурацкое дело нехитрое, если, как водится, надергать цитат, натолочь компиляций, общие места размусолить…» Он не стал обнадеживать Колю, сказал ему напрямик, что книгу издать очень трудно — у них доктора наук пороги обивают, член–корры по три года ждут — но посмотреть, конечно, можно, мало ли что… Подсказал Везенину, где зарегистрировать рукопись, а вечером, уходя домой, положил ее в портфель. Решил на досуге полистать — любопытно все же, что там бывший его однокашник насочинял.
По дороге домой в автобусе Вранцов развязал голубые тесемочки и заглянул в папку. Рукопись называлась «Образ жизни (системный подход)». «На монографию смахивает. Размахнулся Коля», — подумал с усмешкой. Но пробежал глазами страницу–другую, показалось любопытно. Это была не монография, да, в строгом смысле, и не научный труд. Но опираясь на серьезные исследования наших и зарубежных социологов, Везенин поднимал довольно острые проблемы. Он писал темпераментно, раскованно, обращаясь не только к специалистам, но к широким слоям читателей. Здесь было трудно провести грань между социологией и публицистикой, встречались экскурсы историко–философского характера, но все это довольно интересно подавалось. Во всяком случае, ничего подобного на эту тему еще не приходилось читать.
После ужина (по телевизору ничего не было, а Вика устала на работе и рано легла спать) он остался читать везенинскую рукопись на кухне. В кабинете только что циклевали пол — там было неубрано, пыльно, а на кухне даже привычнее. Закрыл дверь, поставил перед собой кофеварку и читал, часто закуривая и прихлебывая из чашечки кофе, далеко за полночь. Если поначалу еще отмечал какие–то спорные положения, скептически хмыкал местами, а иной раз рука по редакторской привычке сама тянулась к карандашу, то дальше читал увлеченно, с острым профессиональным и просто читательским интересом.
Категория «образа жизни», отмечал Везенин, еще задолго до появления социологии как науки была предметом пристального внимания разных философских школ и течений. Уже в древнегреческой философии, которая впервые осознала индивидуальное бытие как самостоятельную философскую проблему, споры о ней сделались актуальными. В этом была заслуга Сократа, который, по свидетельству Диогена Лаэртского, первым стал рассуждать об образе жизни. «Поняв, что философия физически нам безразлична, — пишет об этом Лаэрций, — он стал рассуждать о нравственной философии по рынкам и мастерским, исследуя, по его словам, «что у тебя и худого и доброго в доме случилось».
Но если Сократ стремился к целостному пониманию жизни, то большинство его учеников и: последователей, основавших затем самостоятельные философские школы, разорвало эту целостность на отдельные самостоятельные проблемы. Везенин разбирал далее, как ставилась проблема образа жизни в философии киников, киренаиков, стоиков, давая по пути сжатые и точные характеристики учениям Антисфена, Аристиппа из Кирен и раннего стоицизма Зенона, учившего «жить по природе», которая сама ведет нас к добродетели. Отдельная глава была посвящена Эпикуру, который счастье видел не в наслаждении моментом, а в удовлетворении от жизни в целом, включающей и прошлое, и настоящее, и будущее. Но особое внимание Везенин уделял принципу максимизации способностей, в котором видел стремление к всестороннему физическому и духовному развитию человека. Именно этот момент, по его словам, столь высоко ценил К. Маркс, отмечая, что древнее воззрение, согласно которому человек, как бы ни был он ограничен в национальном, религиозном, политическом отношении, все же всегда выступает как цель производства, куда возвышеннее по сравнению с современным миром, где производство выступает как цель человека, а богатство — как цель производства.
В своем очерке истории вопроса Везенин ничего не упрощал, не сглаживал, не спешил расставить все точки над «i». Проблема образа жизни возникала у него как живая, реальная проблема, словно бы из самой разноголосицы философских споров, страстного диалога противостоящих друг другу школ и направлений, диалога веков. Читая эти страницы, Вранцов и одобрял их, и в то же время с каким–то внутренним сопротивлением воспринимал. Слишком свободно Везенин обращался с материалом, слишком накоротке его трактовал. Это позволительно какому–нибудь маститому академику, но для безвестного кандидата самоуверенно чересчур. И все же было видно, что опирается он на солидную философскую базу, хотя пишет просто и живо, избегая сложных наукообразных терминов и построений.