Молчащий
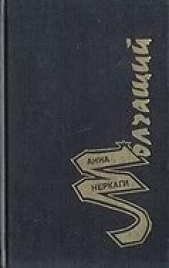
Молчащий читать книгу онлайн
В книгу известной ненецкой писательницы Анны Неркаги вошли уже знакомые русскому и зарубежному читателю повести "Анико из рода Ного" и "Илир". Впервые полностью публикуются "Белый ягель" и "Молчащий", отрывки которого публиковались в различных изданиях под именем "Скопище". По итогам 1996 литературного года книга "Молчащий" удостоена премии им. Николая Мартемьяновича Чукмалдина, которую ежегодно издательство "СофтДизайн" присуждает лучшему своему автору.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Алёшка поднимался с постели медленно. И по тому, как он молчал, не глядя на мать и жену, она поняла, что он слышал всё. И пусть, даже лучше, не надо прятать беду.
Когда чайник вскипел, и сноха поставила перед мужем стол, она перешла на сторону молодых и села на своё прежнее место. Первые чашки выпили молча, но женщина знала, чем дольше молчишь, тем хуже. Она поставила чашку на блюдце и сказала:
— Сын, посмотри мне в глаза.
Алёшка не сразу, но поставил на стол блюдце. Эти слова мать сказала очень давно всего лишь раз и с той поры никогда не говорила, не напоминая сыну о давнем...
Тяжёлой и скучной казалась жизнь в тундре в первое время после школы, а борьба за полный живот семьи — бессмысленной и ничтожной. И не выдержал Алёшка. Осенью, когда ребята стойбища уходили в школу, он собрал чемодан и, не глядя на мать и меньших братьев, наблюдавших за ним, пошёл к вертолёту, до отказа набитому школьниками. Он шёл и слышал за спиной тихие и робкие шаги своих. Ни мать, ни ребятишки не окликали его. Около вертолёта он обернулся и увидел, как мать отделилась от детей, робко подошла к нему, протягивая для прощания руку. Он пожал пальцы матери, чувствуя, как они дрожат, и тогда мать сказала:
— Сын, посмотри мне в глаза.
Он посмотрел и увидел... длинную зиму, холод, ночные дежурства в стаде, петли на зайцев и куропаток, капканы на песцов и дрова. Чтобы в чуме было тепло, нужно много дров, а для этого нужно много мужских сил.
Он бросил чемодан на землю, вздохнул, как взрослый, и сказал:
— Ладно, пойдём мать.
Братья бросились к нему и, вцепившись в ноги, заревели. Они с матерью, сдерживая себя, чтоб самим не заплакать, еле успокоили их...
Алёшка поставил на стол блюдце. Ну что ж, мать права, нужно когда-нибудь и посмотреть в глаза друг другу, не сегодня, так завтра и, может, чем скорей, тем лучше. И зачем, подобно ночному зверю, гадить в темноте, выйти лучше на свет, и мать снова, как когда-то, поможет ему.
Он посмотрел на неё прямо, открыто и невольно... совсем невольно для себя вдруг понял: перед ним не та мать, что много лет назад, не жалуясь, провожала его. Та могла сама и дров напилить, наколоть, ночь просидеть, карауля стадо, и капкан худо-бедно настроить. Сейчас на него смотрела старая, усталая женщина. Алёшка опустил глаза, как и много лет назад, по пути к вертолёту, он почувствовал себя не только виноватым перед матерью, он снова предавал всё, что дорого ей. И она пожалела сына, сказала не сердито, как хотела, а смиренно:
— Сын, ты мужчина, а я женщина, не могу идти по следу твоего ума. Сам знаешь, распутывать сложные следы зверя — не женское дело. Но... как мать, я могу спросить тебя?
— Да, мама.
— Сегодня утром твоя жена, разжигая огонь, плакала. Почему?
Алёшка не смел ответить. Спрятав под стол подрагивающие руки, он сказал как можно проще:
Я не люблю её, мама.
— Люблю?.. Что это значит? Жена не сладкий кусок, не жирное мясо, чтобы любить или не любить. Жена — твоя половина, и её жизнь — половина твоей жизни. Так было всегда.
— Но, мама.
— Что мама... Один раз ты уже дал... людям посмеяться надо мной. И сейчас ты этого хочешь? Сколько прошло времени, а ты не берёшь женщину. При этих словах лицо девушки вспыхнуло, а по щекам одна за другой побежали быстрые слёзы. Отвернувшись в передний угол чума, она занялась и без того чистой посудой, перетирая и переставляя её, а непослушные слёзы всё текли и текли.
Эти слёзы, молчание сына и вообще плохое молчание, которое всегда говорит, что в чуме неладно, и утренний радостный чай, который пили с руганью, позабыв о святости еды, всё отдалось в сердце женщины болью.
Но что делать... Сын не щенок, у которого не прорезались полоски глаз, не схватишь его за шкирку, к шесту не привяжешь, вот, мол, место твоё, а в нём есть всё — и пища, и тепло, и радость.
— Мама, я не тронул её и... И сам могу отвезти её обратно к матери и отцу.
— Так... отвезти... Какой ты умный. А скажи-ка мне, кто будет шить тебе кисы, зашивать, латать дыры, готовить дрова и воду, чтобы ты, такой умный, мог пить чай и есть мясо? Кто?! Опять они? — мать протянула перед собой дрожащие скрюченные пальцы, — Они? А кто будет, скажи мне, рожать детей? Чтобы ты не умер под старость как собака. Кто? Я?!
— Мама...
—■ Нет, не мать я тебе, — закричала женщина. — Не чувствую себя матерью. Ты хочешь, чтобы я ползком, на четвереньках, убирала за тобой. Хватит. Я хочу тихую норку старости и оттуда смотреть на детей твоих.
— Замолчи, мама.
— Не замолчу... Любить... тьфу. Для жизни любить не надо, только собакой быть не нужно. Ты мужчина — жизни голова. Мужчина и женщина сходятся вместе не для игры. Ты кормишь её и детей, она согревает чум, одевает тебя. Так мы жили. Так?! А ты играешь и ждёшь, чтобы и я играла с тобой. А погляди, погляди хорошенько, мне ли время играть?
Она склонила над столом голову, щедро блестевшую сединой, и некоторое время сидела так, давая сыну опомниться, найти слово, единственное, верное. Но Алёшка молчал. Мать не удивила, не поразила его своей правдой, всё было так, как она сказала. Да, это большая правда суровой, тяжёлой жизни, в которой муж и жена связаны между собой крепко, как пелей и передовой. Один из них упадёт, второй не потянет, и не пойдёт вперёд упряжка Жизни.
Неужели всё так до обидного просто? Но для такой жизни человеку не надо много, хватило бы животных инстинктов, и были бы тогда люди-мыши, люди-волки, люди-черви...
— Ты долго молчишь, сын, — подперев голову, мать смотрела на него, как и в начале разговора, требуя ответа на вопрос, на который он не мог ответить.
— Молчу, потому что думаю.
— Думай. У тебя на плечах не кочка, а голова. Но ты сам не знаешь, чего хочешь. Сам не живёшь и нам не даёшь. Бери женщину, а если... не хочешь, я... сама тебя на неё положу.
Резко поднявшись, Алёшка отодвинул ногой стол и вышел. На улице стояла запряжённая упряжка, олени время от времени сильно, с шумом встряхивались, и от них, словно дождевые капли, отскакивали надоедливые осенние оводы и мелкие комары.
«Мне бы так встряхнуться», — со злостью подумал Алёшка, не садясь, а бросая себя на нарту. Олени понесли быстро, а хотелось ещё быстрее, и он, покрикивая от злости, чтоб не заплакать, гнал и гнал их. Встречный горячий ветер упруго шумел в ушах, не охлаждая щёк, не принося с собой ни успокоения, ни здравой мысли, за которую можно было бы уцепиться.
«Сама уложу»... — звучали обидные слова матери, и хотелось громко рассмеяться над ними, но вместо смеха подступали не мужские, бессильные слёзы. После этого разговора в чуме установится молчание, какое бывает в зимнем лесу между деревьями, насквозь прихваченными морозом. И пусть. А любовь всё-таки есть, и она всему живому душа и голова, а то, что предлагает мать, мышиная жизнь.
«А я не хочу такой... — упрямо думал Алёшка, всё погоняя оленей. — Не я придумал любовь, и не мне отвергать её».
Проезжая мимо негустого, почему-то по-летнему весёлого и широкого леса, Алёшка заметил на его окраине два невысоких деревца, стоявших рядом, почти вплотную друг к дружке, наверное, так, что издали можно было подумать, что у них один ствол, а верхушки две. Алёшка остановил упряжку, подошёл к деревцам и стал внимательно йх осматривать. Нет, ствол у них не один, каждое деревце стоит само по себе, а внизу, усыпанные сухой травой, выглядывают крохотные маленькие лиственнички, растопырив во все стороны слабые жёлтенькие веточки.
Поражённый внезапной мыслью, Алёшка начал ходить от одного дерева к другому, углубляясь всё дальше в лес, и даже в самой его гуще, где, казалось, деревья стояли беспорядочно, не подчиняясь никакому закону, он угадывал и видел семьи. Вот дерево-отец, оно мощно раскинуло руки-ветви, сильные и упругие, с молодой блестящей хвоей, верхушка его высока, и иголки на ней, словно седины, голубоваты. А это дерево-женщина, ствол её пахнет солнцем, будто молоком, кора её тепла, а многие сучья корявы и пообломаны. Не одной зимы снег ложился на них, и ей приходилось принимать на себя тяжесть ветров и бурь, чтобы внизу не погибли до времени дети-деревья, одни из них повыше — уже взрослые, а самые крохотные, ещё в зачатии, как всё равно у людей — младенцы в люльках.


























