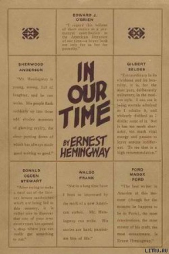Властелин дождя

Властелин дождя читать книгу онлайн
Фзнуш Нягу — один из самых своеобразных прозаиков современной Румынии. Поэт по натуре, Ф. Нягу глубоко и преданно любит свой степной край, его природу, людей, обычаи и легенды. Прошлое и настоящее, сказочное и реальное соткано в его рассказах в единое повествование.
Эта книга, где собраны лучшие рассказы Ф. Нягу за четверть века, демонстрирует творческий диапазон писателя, темы и мотивы его поэтической прозы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Какая-то девушка закусывала в тени белой акации. Увидев мальчика, она подбежала к берегу с полотенцем в руках и удивленно закричала:
— Бэнике!
Мальчику ничуть не показалось странным, что она знает его имя, — здесь, в этой сказочной стране, все может быть, и он сказал ей:
— Будь добра, вели этому жирному большому гусаку заплыть за корыто и подтолкнуть меня к берегу.
Девушка вошла в воду так глубоко, что замочила подол платья, и, завернув Бэнике в полотенце, взяла его на руки.
— Ты где был-то? — спросила она, ставя мальчика на траву.
— У-ух, как далеко! Я много проехал и очень устал. А куда я попал?
На птичник. Бабушка Параскива знает, что ты уплыл на корыте?
— Да ведь я и не собирался. Это река меня утащила.
— Ладно, — сказала девушка. — Я сама тебя домой отведу.
А ты не сможешь. Ты ведь не знаешь, где мы живем. И я тоже не знаю, — заключил он и застыл, потому что из кукурузы вышел баран.
Баран был точь-в-точь как тот, которого Бэнике видел в окне мельницы, и шел он, опустив голову, в окружении целого стада овец.
— Испугался? — спросила девушка, — А ты с ним поговори, и он тебе ничего не сделает.
Он же не понимает. Как с ним говорить, если он не человек?
— А ты попробуй, — настаивала девушка. — Послушай, баран, — сказала она, — Бэнике хочет поиграть с твоими овечками, можно?
Баран остановился, прочно упершись ногами в землю. Мальчик криво усмехнулся.
— Возьми его за рога, — подталкивала Бэнике девушка. — Он ведь думает, что ты хочешь своровать его овечек.
— Я не буду их воровать, баран, — сказал мальчик, — Это только наш кот ворует. Вот в воскресенье бабушка Параскива зарезала курицу и отложила для меня шею и печенку, а кот утащил. Но я его не бил. Я только обул его в скорлупу от орехов. Знаешь, — продолжал он, все больше смелея, — ты мне нравишься, правда. Хочешь, я подарю тебе колокольчик от моих санок? Он желтый, с тоненьким язычком, а на конце язычка — свинцовая горошина. Завтра принесу тебе. А может, ты сам за ним придешь? Под нашим домом — холодный источник. И знаешь — я обязательно поймаю тебе рыбку, а бабушка Параскива ее зажарит.
Баран опустил голову в знак глубокой благодарности и молча удалился. Бэнике подождал, пока баран отойдет подальше, потом оторвал завязки от фартука — девушка забыла его под акацией — и принялся плести из них кнут.
Под вечер девушка отправилась с Бэнике в деревню. Устав от необычайного путешествия, мальчик заснул у нее на руках, и снилось ему, будто он мчится в пролетке, запряженной четырьмя зайцами.
1964
Колодцы
Спасибо тебе, доктор, что велел вынести меня сюда. В этой садовой беседке, опутанной виноградным ползуном, я и помру спокойно.
Гей, гей, гордая ель!.. Уходит Скарлет Кахул. Глянешь на него попристальней — поймешь: пробил его смертный час. Колодцы он рыл, целую жизнь рыл, а под вечер помрет.
Ох, доктор, доктор, круглое лето бился ты со мной, подлечить старика хотел, да не вышло… Из хомута не сошьешь армяка. Святая правда…
Ты досадуешь, а зря. Молод ты, сердоболен, да и на гнев скор. Поостынь малость, не мельтешись. У овчара в сарае поболе ягнячьих шкурок подвешено, чем старых овчин. Так-то, мил человек. Увидишь — помирать начну, отойди в сторонку, не мешай, может, страшно смерть принимать, пот прошибет, а пот трусливый скверно пахнет, скверней ничего на белом свете нет. Обутку мою, она прочная, добротной кожи, из чемодана вынь да старику прохожему и отдай… А меня в сапогах схороните.
Гей, гей, акации мои!.. Листья, отяжелелые от изморози, слепят мне глаза. На спине лежать не хочу. Вверху безлюдно, безмолвно. Один туман да облака кучерявятся. Тихо там, пустынно, а человек не в небо, в землю уходит, на то он и сотворен.
Спасибо тебе, доктор, что наказал в сад меня отнести. На виноградные плети вон полюбуюсь. Ветром меня обдует. Скользнет он по винограду, лицо мне обласкает… Спелой ежевикой ветер пахнет, страсть нынче ее уродилось, правда, доктор? Обильная осень выдалась, хлебная. А вот арбузов да зайцев нынешний год нет. Арбузы в засуху только хорошо родятся…
Как тебя, доктор, я любил Яну да Лылэ-цыгана, двоих только и любил. Когда умерли они, колодцы поминальные я им вырыл. Почитай, сотнях на двух колодезных срубов имя свое я пометил. Ничего другого не оставил я на свете…
Гей, гей, моя ель!.. Истаял горизонт, а месяц не сошел еще с неба, не погас. Застыл подковой, повис над акацией. Небо глубокое, рассветное. «Засох побег лимона…» — так поется в песне.
Гляжу я, доктор, как паук ткет нить, и вспоминаю про ласточек-летуний, что ныряют в поднебесную мглу, как крючок в дырку чулка. Простая, добрая песенка про них есть…
Гей, гей, хороша жизнь, доктор!.. Видишь вон ту плющиную голую плеть, вон со стрехи свисает? Потрогай ее, доктор. Она живучая и мягкая, как веревка, что с Манилы привозят. Коль воротятся силы, одного хочу — повиснуть на веревке и скользнуть вниз, на дно колодца. И лопата при мне чтоб была. Никому так не открываются непочатые родники, как мне. Удел мой на земле — ключи отыскивать, откупоривать их, вода чтоб текла, как из бочки вино. Остановит у колодца проезжий человек повозку, студеной воды попьет, спасибо скажет. И коней напоит, пускай поостынут, освежатся. И на колеса, на ободья плеснет — не соскочили бы, не рассохлись.
Степь у нас в Колковану бедная. Знойная. Земля изрезана пересохшими оврагами, меловыми скатами, твердая, как копыто дьявола, а под ней — реки. Мы с Лылэ-цыганом однажды наткнулись на такую. В земную глубь упрятана она была, метров на двадцать. Копали мы, копали — недели три, как слепцы. Не нашли ничего, все ямы засыпали. Чуть погодя я опять за лопату взялся, опять рыть стал. Осенью было это. Лылэ глину ведром из ямы таскал, надрывался, бедняга. Рыл я, а сам к земным шорохам прислушивался. В колодезной яме, когда вглубь уходишь, вода лепечет, как тополиная поросль. Нарыл я гору глины, а ничего не слыхать. Лылэ-цыган ругался.
— Докуда рыть будем, дядя Скарлет?
До пупа земли.
— Давай тогда смастерим себе по удочке, кисточки красненькие на крючок прицепим, вдруг в болоте на квакуш наткнемся — самолучшая лягушачья приманка, кисточки-то.
Я молчу. Рою дальше. На дне ямы темно, тепло, будто я в мешок с опарой забрался. А сам глубже, глубже закапываюсь. Пот стекает с меня ручьями. Мокрею, как улитка, что выползла из ракушки лист погрызть и ненароком угодила на соляную горку.
Попозже, когда и я стал надежду терять, различил вдруг бормотанье воды. Будто горячей волной меня обдало. Перекрестился я и снова за лопату взялся. И въявь услыхал гул воды. Нутряной густой гул иной раз тончал, сменялся звяканьем. Песок, подумал я, вода его подмывает, видать, в жиле спад есть. Тут раздался сильный всплеск, толчок. Гул усилился, заполнил колодезную яму. И было так, будто в реку, верхом на конях, ворвалась ватага разбойников и вода вст-вот из берегов выйдет. Я кликнул Лылэ. А он сверху:
— Ты совсем спятил, дядя Скарлет. Скорей поверю, что ты до того света добрался. Если там ты, так скажи родителю: плакали его надежды, мать за Ризю Горбуна замуж выскочила, недаром он нам ворованных кур таскал.
Я молча воткнул лопату в землю. Повернул черенком — и в трещине забулькала вода, как кровь из-под ножа, когда кабана забиваешь. С одной разницей — кровь теплая. Я прислонился к стенке колодца и глядел на воду, как на чудо. Она била тонкой, словно камышинка, дрожащей струйкой. Ростом с меня. А над отверстием колодца висело расплюснутое солнце, и от него на воде мерцала радуга. Я глядел, как водяная с. труя расцвечивалась у моего лица и опадала. И была она как золотистая птица-щур с длинным клювом и разноцветными перьями, привязанная ниткой за ногу, и будто бы все пыталась взлететь. Потом я сложил ладони ковшиком, подставил под ледяную струю, ополоснул лицо никем еще не отведанной водой и напился. И сейчас ее вкус у меня на языке — будто молодое вино или отвар из сладкой травы. И отпустил я на волю водяную струйку. Обвязался веревкой, и Лылэ вытащил меня наверх. Вода заполняла колодезное дно, поднялась уже на четверть. Лылэ-цыган обалдело глядел на нее.