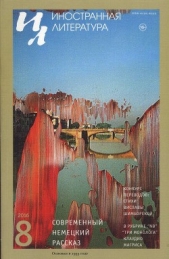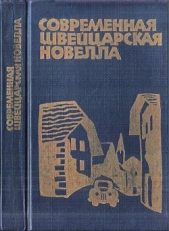Счастье Зуттера
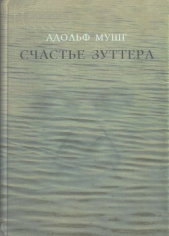
Счастье Зуттера читать книгу онлайн
Адольф Мушг (р. 1934) — крупнейший из ныне живущих писателей Швейцарии, мастер психологически нюансированной, остроумно-иронической прозы. Герой романа «Счастье Зуттера» после смерти жены и совершенного на него покушения пытается разобраться в случившемся, перебирает в памяти прожитую жизнь и приходит к выводу, что в своих злоключениях виноват сам, что он не только жертва, но и преступник.
«Счастье Зуттера» — глубокий, насыщенный актуальным содержанием роман о любви и одиночестве, верности и вероломстве, правде и лжи, старении и смерти — о том, что все в этой жизни в любой момент может обернуться своей противоположностью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но это же невозможно пить, — удивился Зуттер.
— Я люблю все пряное, — сказал патер, вытащил из кармана плоскую бутылочку и плеснул из нее в чашку. Его рука дрожала. — Джин. Плеснуть и вам?
— Нет, спасибо.
— Не хотите причаститься у любителя джина. Вы совершенно правы. Так поступают только безнадежно больные.
— Вы были раньше католиком?
Циммерман так наклонил чашку, что чай пролился в блюдце.
— Вы любите, чтобы тело Господне было крепким, — пояснил Зуттер.
— А я думал, что не люблю делить с народом Его кровь, — сказал Циммерман. — Вы угадали. Я сменил вероисповедание в пятнадцать лет, по причине двойной морали святых матерей.
— Тогда вы попали из огня да в полымя, — заметил Зуттер. — Католики по крайней мере живут тем, что они же и запрещают. Реформированные же не знают ничего, кроме запретов. Это значит, они запрещают саму жизнь.
— Не в огонь и не в полымя хотел я попасть, а в самую что ни на есть грозу. Ее не могут предложить ни те, ни другие. Двойная мораль не помогла еще ни одному человеку. Нужна мораль стократная или тысячекратная. Вы думаете, я мог бы всерьез говорить с пациентами, если бы не имел in petto [5] особую мораль для каждого? Если к кому-нибудь из них я не нахожу подхода ни с одной из этих моралей, то вижу в этом непростительный для себя грех.
— Вам бы надо остаться филологом.
— Златоустом? Нет, уж лучше быть Рослибом. Мне бы родиться греком, но я опоздал на добрых две с половиной тысячи лет. И все же, господин Зуттер, и все же. Вот вы говорите, что забыли греческий. Значит, когда-то вы его знали. Точнее, он знал вас. Вы спокойно можете забыть греческий, но он-то вас не забудет.
Пастор умолк. В уголках его рта застыла горечь, толстая нижняя губа отвисла, на ней блестела капелька чая.
— Чтобы нам с вами не молиться вместе, я тоже расскажу кое-что поучительное, — прервал молчание Зуттер. — Вы не понравились мне с первого взгляда, тут ничего не изменит даже моя благодарность вам. И все же вы второй человек, появившийся здесь, в котором я не чувствую функционера. О греческом вы говорите как о благодати. Я ее не знаю, но она меня знает. В меня стреляли, господин пастор, не знаю кто, полиция тоже не знает и не очень старается узнать. Мне мой убийца известен столь же мало, как и вам ваш Бог. Но он — или она — хотел тем не менее что-то обо мне узнать. Этого было достаточно, чтобы пустить в меня пулю. Кому-то очень хотелось от чего-то избавиться, по меньшей мере от пули. Как человек я не очень интересен себе. Но как объект криминального разбирательства? Тут есть что-то новенькое. Вы принесли мои вещи, так доведите дело до конца. Пожалуйста, уберите их в шкаф.
— Вряд ли стоит это делать, — сказал Циммерман. — Вас же отпускают домой. Все причиндалы с вашего тела сняты.
Циммерман так аккуратно сложил одежду Зуттера на кровати, словно был не пастором, а матерью готовящегося к конфирмации сына. Все вещи лежали, символизируя готовность шагнуть в новую жизнь, им недоставало только тела. В детстве у Зуттера были книжки с картинками, из них можно было вырезать макеты одежды и наклеивать на плоские картонные фигуры. И бумажный человечек превращался вдруг в римского сенатора или прусского гренадера. А то и в кокотку эпохи рококо, за десять тысяч лет до Барби. Зуттер, бродяга, вставай и дуй вперед. Только оденься потеплее.
— Если я правильно понял, — сказал Циммерман, — вам, чтобы вставать по утрам с постели, нужен основательный повод.
— Можно обойтись и без повода. Но не без бритья!
— Отрастите себе бороду, — посоветовал Циммерман.
— Тридцать лет назад так поступали многие. Наш поселок поначалу был целиком под влиянием Cuba Libre [6]. Через пару лет это стало стимулом для карьеры или поводом для пьянства или тем и другим вместе. Во всяком случае, увлечение прошло, но не прошла страсть зарабатывать больше денег и курить настоящие гаванские сигары. Сигары продаются лучше, чем революция.
— Я читал ваши репортажи. Для вас были важны случаи, произошедшие с другими. Вы играли на поступках и страданиях людей, как на ксилофоне, наслаждались звуками, которые, погибая, издает человек. А теперь хотите стать своим собственным случаем и узнать, что человек чувствует, когда на нем играют. Простреленное легкое — всего лишь хлесткое начало. Дальше, если хотите знать мое мнение, дело примет более тонкий оборот.
— Я не спрашиваю вашего мнения, — сказал Зуттер. — Нас вообще не спрашивают. Никого. Просто с нами что-то случается. Что-то с кем-то. Что, как, чем, откуда и куда, с каким финалом — так приходится членить теперь фразочки. Взгляните на эти шмотки: чистые объекты. Взгляните на меня: не столь чист, но как объект тоже достоверен, в достаточной, на мой вкус, мере. Недостает лишь мелочи: кого или чего? Субъект, подлежащее, господин пастор, столь основательно исчезли из наших предложений, что мы уже почти не замечаем их отсутствия. Не думайте, будто я ищу исполнителя преступления, объектом которого я стал. Меня интересует субъект преступления. И не спешите называть это теологической проблемой.
— Кто угодно, только не я. Теология, господин Зуттер, это процедура с отсутствующим ответчиком. Тут даже не действует больше: in dubio pro Deo [7]. Все лазейки закрыты, в том числе и лазейки для хитрецов. Вера как игра по принципу fifty-fifty. Если Бог есть, то она оправдала себя. Если же его нет, то ты, утратив веру, потерял немного. Неправда, Зуттер, потерял все. Остатки честной веры в наше существование. Существование — это то, что человек должен вынести, хочет он того или нет. Все зависит от того, насколько мы высовываемся. Мы торчим в пустоте, как окровавленный указательный палец, и пока он торчит, ему достается все больше и больше. Убрать его тебе не дано. Для этого у тебя нет руки.
Патер говорил и аккуратно укладывал вещи Зуттера в шкаф. Он наклонялся и кряхтел. Зуттеру еще не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так заботливо обходился с одеждой, не сказать, чтобы очень умело, но весьма деликатно. И это при том, что на давно не глаженных брюках Зуттера не оставалось даже следа от складки.
— Вовсе не требуется. — продолжал пастор, — писать существительные с большой буквы. Такого нет даже у Лютера, это барочное изобретение, инфляция божественной сигнатуры, ее распространение на любой фетиш. Есть языки, которые обходятся без подлежащего, но знают, о чем говорят, или настолько умны, что не хотят точно этого знать. Да и у нас процветает растительность, бедная подлежащими. Флора руин в парке авторского права и тщеславия. Смеркается, темнеет, рассветает. Имеется.
— Мне досталось, — ухмыльнулся Зуттер.
— Не говорите мне, — возразил после паузы Циммерман, — что не хотите узнать, кто в вас стрелял. Вряд ли стоит лишать себя этого удовольствия. В кого стреляют? Едва ли в одного из сотен.
— Предположим, — сказал Зуттер, — мне очень этого хочется; но не случится ли так, что я буду каждое утро знать, ради чего встаю с постели, однако в один прекрасный день просто не смогу это сделать?
— Вполне возможно. Только благодаря исследованию я произвожу объект своего исследования. А потом он меня убивает или приводит к слепоте. Таким мне видится современное естествознание.
— Я и так уже плохо вижу, — сказал Зуттер, и не нуждаюсь в преступнике, чтобы ослепнуть совсем. Судьба сама позаботится об этом.
Зуттеру показалось, что его слова потрясли Циммермана.
— Послушайте, — сказал он, — не запускайте это дело. С глазами шутки плохи. Хотите, я назначу вам встречу с профессором Фёгели. Поверьте, он творит чудеса…
— Вера и чудеса, — Зуттер снова обрел способность улыбаться. — В этой фирме я уже побывал, господин Циммерман, и впредь даже мизинца им не доверю. А тем более окровавленного указательного пальца. Надо терпеливо выносить то, что выпало на нашу долю. Не ваши ли это слова, господин пастор?