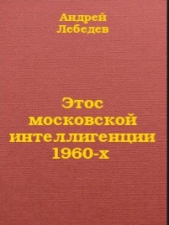Hohmo sapiens. Записки пьющего провинциала
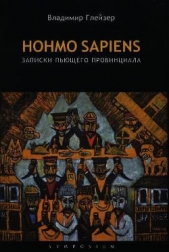
Hohmo sapiens. Записки пьющего провинциала читать книгу онлайн
Эта книга — рассказы о веселых перепитиях чисто конкретного провинциала в Стране Чудес — Союзе Советских Социалистических Республик. В книге жизнеутверждается главный авторский принцип: только законченный пессимист с оптимизмом смотрит в будущее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конфиденциальные источники из стана врага доносили о воцарившемся там смятении и о рождении в генштабе мздоимцев подлого плана завалить наглого и вонючего горного козла на письменном экзамене по русскому языку и литературе.
Надо сказать, что экзамен этот был специиально придуман для окончательного установления проходного балла. И являлся той самой волшебной палкой, с помощью которой изгонялись злостные неплательщики взяток всех времен и народов.
Специалисты-проверялы не только тщательно подчеркивали и считали орфографические и пунктуационные ошибки, но в случае необходимости не задумываясь переправляли букву «о» письменную на «а» и ставили лишние запятые в середине слитного слова. Но на хитрую мускулис глятеус есть пенис с винтом!
Телеграфную ленту Бодо ни Министерство связи, ни тем более Министерство высшего и специального образования не отменяли. И поэтому стратегами и тактиками было приказано Маммаеву отродью писать сочинение на свободную тему печатными буквами от руки в телеграфном стиле!
Ибрагим выбрал из предложенного подходящий вариант — «Я буду стараться свободно и смело, правдиво и честно Отчизне служить!» (по стихотворениям советских писателей).
Он начал цитатой из «Марша энтузиастов»: КВЧ МЫ РОЖДЕНЫ ЗПТ ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ ВСК КВЧ. И закончил строками Маяковского: КВЧ Я ЗНАЮ ЗПТ ГОРОД БУДЕТ ЗПТ Я ЗНАЮ ЗПТ САДУ ЦВЕСТЬ ЗПТ КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ В СТРАНЕ СОВЕТСКОЙ ЕСТЬ ВСК КВЧ
Конфиденциальный источник из стана врага в непотребном состоянии алкогольного психоза ржал, как полковая лошадь из Дикой дивизии, валяясь рядом с праздничным стойлом. И взахлеб с водкой рассказывал нам о том, что происходило в приемной комиссии.
В телеграфном стиле это выглядело так. Срочно вызванные по поводу правописательного криминала представители МВД, КГБ, спецпсихбольницы и прокуратуры ничем не смогли помочь вляпавшемуся в Маммаево семя начальству мединститута, и неплательщик редкой кавказской национальности получил первую в истории неправедных вступительных экзаменов в этот вуз «пятерку»!
На первую лекцию студент Ибрагим явился чисто одетым, чисто вымытым, чисто выбритым, добродушно сияя отполированными золотыми зубами.
Зло не было наказано, но справедливость восторжествовала!
МЕМУАР
Григорий Иванович Коновалов был известным советским писателем. То есть его книги массовыми тиражами издавались для советских читателей ГДР, Болгарии, Румынии, Албании и даже Монгольской и Китайской Народных Республик.
Мужиком он был видным, широким и открытым на нескольких первых страницах своей биографии, где было и происхождение из славных оренбургских казаков, и служба на Северном флоте, и партработа в ЦК ВКП(б), включая многочисленные застолья с великими мира того.
Зятю его, моему не разлей вода дружку Дяде-Ваде, время от времени давалось семейное поручение последить за тестем в те критические дни, когда Григорий Иванович «гулял» или, как бы сказали в наше толерантное время, «расслаблялся». Гулял он не опасно, но шумно, но именно шума и боялись чуткие считатели авторских листов его произведений — члены семьи.
Так что уводил Дядя-Вадя прозаика искусств и поэта жизни из кабаков всегда вовремя, до срывания скатертей и битья окон. По хорошей погоде практиковалась длительная прогулка под пиво до дому, до хаты, а в неважную приходилось использовать перевалочные пункты. В частности, места проживания сокурсников Дяди-Вади, где по неуемности и бедности в ночь уже не оставалось никакого зелья, а поболтать с молодежью числилось в страстях стареющего литератора.
Так Григорий Иванович и попал ко мне домой.
С точки зрения поводилыцика, попал он неудачно, а с точки зрения ведомого медведя — удачно и даже крайне. Потому что, как вы догадались, мы пили, к радости писателя, изъятого из процесса поглощения пойла, водку со товарищем, Левой Циркулем — человеком уникальной природной акустики: когда Лева смеялся, дрожали стекла, и посуда со стола съезжала, как на сеансе телекинеза.
Мы поздоровались, в соответствии с правилами общения великого писателя с простым народом, троекратными поцелуями взасос и богатырскими объятиями и тотчас приступили к трапезе. Слово за слово, но подошло время поучительного мемуара. Все по тем же правилам хождения наверх из самых посконных низов Григорий Иванович (блестяще владевший русским языком как письменно, так и устно!) окал, акал и якал, дуракуя безбожно:
— Ну, Володька да Левка, да и тябе, Вадька, послушать не мяшаит, скажу-ка я вам, как чятал я свой первой рассказ на сяминаре у Бабеля Исака Мануилыча, учителя свово, по навету злодейки убиенного. Ну, взялси я только чятать, открывается дверь, и заходит Паустовскай, Кинстинтин Гиоргич!
Исак Мануилыч мне: «Ну, Хриша, извяни, Кинстинтин Гиоргич пришел. Начни-ка ты чятать заново». Ну, взялси я только чятать, отворяется дверь, и входит Та-алстой, Ляксей Николаич! Исак Мануилыч руками розводит и ховорит: «Ну, Хриша, извяни, Ляксей Николаич пришел, придетси тябе, голуба, снова начать!»
Сидим мы, между прочим, с поднятыми стаканами, Дядя-Вадя уменьшению частоты радуется, а мы с Левой не очень — нам по молодости процесс прерывать было не с руки.
— Ну, взялси я снова чятать, открывается дверь, и входит…
Тут я в манере повествователя как продолжу:
— Та-алстой, Лев Николаич!
А Лева как засмеялся, а окна как задрожали, а посуда как со стола посыпалась, а Дядя-Вадя как остекленел, а Григорий Иванович как вскинулся, да как заорал:
— Да ну тя, Володька, в пязду!
На эти черные слова в одной ночной рубашке из спальни выскочила моя маменька, женщина солидная и интеллигентная, ручки на большой груди сложила, глазки закатила и говорит:
— Ну, от вас-то, Григорий Иванович, я этого не ожидала! А еще советский писатель! Я вас, между прочим, на ночь читала!
А Григорий Иванович, казак, моряк и народный артист разговорного жанра, бух перед маменькой на колени, и как заорет тем же поставленным голосом:
— Про-ости, матушка, про-ости, родненькая! Бес мяня попутал, шо твой Володька шибчей мяня, писателя рускава, сказы сочиняить. В тябя он, матушка, в тябя весь! Зазавидовал яму я черной завистью и изругалси мерзопакостно! Отпусти уж мне, миленькая, грех мой поддай!
Конечно, для маменьки сынка похвалить на ночь надежней снотворной советской прозы. Умиротворилась она преподанным объяснением и спать пошла.
А мы дружно подняли стаканы в честь нами нечятаемого, но почятаемого главного инженера чялавечяских душ.
ЧА-ЧА-ЧА, ЧАЧА!
Сели Дядю-Вадю описывать в терминах конца прошлого века, хватило бы всего двух слов через черточку — секс-символ. А во времена нашей молодости требовалась расшифровка в духе кинофильма «Кавказская пленница»: спортсмен, отличник, комсомолец, красавец, и главное — владелец личного автомобиля, гордости совкового дизайна дожигулевской эры, голубого, как самые распространенные женские рейтузы, «москвича-412». Этот высокоскоростной пердун был свадебным подарком зятю от богатого тестя — живого классика Григория Коновалова в придачу к дочери Тане, спортсменке, отличнице, комсомолке, и, главное, красавице. Отблагодарить щедрого дарителя неторопливый Дядя-Вадя удосужился годам уже к тридцати, народив внучку-любимицу. До того красавцам было не до этого — отличники ковали научное счастье, кончая аспирантуры и защищая диссертации. Рождение наследницы трех ученых и одного писателя (теща тоже была доцентом) чудесным образом совпало с появлением очередной наследницы двух беспоместных инженеров — меня и моей жены.
Собственно, ничего странного в этом совпадении не было. Ровно девять месяцев назад, летом предыдущего года, на голубом пердуне мы достигли берегов ныне почти зарубежного Чудского озера, где в короткие белые ночи кроме совместных питий и объятий и делать-то было нечего.
Добирались мы до мест соития тяжело, прорываясь в недружественную Прибалтику из Восточной Пруссии через Калининградскую область по сильно пересеченной автобанами местности без единого дорожного указателя и инспектора. И хотя последнее обстоятельство позволяло принимать из бездонных походных фляжек легкие алкогольные напитки, не отходя от штурвала, проблема ориентирования на местности без компаса и астролябии напрягала путешественников. Ужас, от которого мы бежали, был нагляден и антипатриотичен: полуразрушенный Кенигсберг и полузастроенный Калининград вкупе оказался настоящим Говнополисом, загаженным безродными новоселами квадратно-гнездовым способом. И даже на сохраненной теоретиками и практиками марксизма в неприкосновенности надгробной плите Иммануила Канта, предтечи бессмертного учения, прямо на надписи лежала огромная куча свежего человеческого дерьма. К месту вспомнился (довольно приблизительно) стишок Н. А. Некрасова: