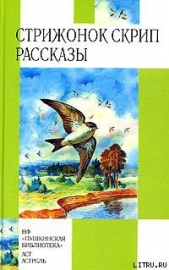Дурочка

Дурочка читать книгу онлайн
Немая «дурочка» родилась в маленьком военном городке в семье офицера, и родители, решив избавиться от «позора», положили ребенка в колыбель и пустили по реке навстречу сиротской судьбе. Однако колдовские воды отнесли ее вспять на 30 лет, заставили пережить несколько вариантов судьбы. Сказка, притча, Евангелие, современные мотивы существуют в прозе Светланы Василенко на равных началах, прошлое как бы расшифровывает настоящее и растворяется в нем, и все это вместе создает единственную, только этому автору принадлежащую вселенную.
Светлана Василенко называет себя представительницей «настоящей женской литературы, которая за последнее десятилетие расширила границы прозы со всей свойственной женскому темпераменту эмоциональностью, прозорливостью и… жесткостью».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Четвертая часть
1
Скрып.
Скрып.
Скрып-скрып…
Скрып.
Скрып.
Скрып-скрып…
Скрипят качели, взлетая все выше и выше.
Я лежу на крыше и смотрю на Надьку.
Я смотрю ей прямо в зрачки.
— Надька! Откуда ты взялась? — говорю я ей. — Откуда ты приплыла к нам, Надька? Зачем? Мы ведь жили без тебя, откуда ты взялась, Надька?
Ее растерянное лицо зависает на секунду рядом с моим.
Она молчит.
Уже полтора года я был братом дурочки, приплывшей на плоту.
Той весной был сильный разлив. Я тогда сидел на Ахтубе и удил рыбу и увидел, плывет по реке плот, а на плоту красивая такая девчонка, и я помахал ей, она подплыла ко мне и сошла на берег и стала смотреть, как я ловлю рыбу. Как тебя зовут? Она молчала. Я собрал удочки и пошел, она — за мной. Мать и отец были на грядках, сажали морковь, вот, говорю, на плоту приплыла какая-то девочка, увязалась. Мать медленно опустилась на колени, прямо на грядки: «Надя!» — сказала она. «Господи, — сказал отец, — Господи!»
Это приплыл их грех: когда-то давно, тринадцать лет назад, у них родилась дочь, моя сестра Надька, слабоумная девочка, дурочка, это был стыд — перед военным городком, офицерами и их женами, — мой папа сверхсрочник. Мать с отцом положили девочку в колыбельку — мама плакала, рассказывая, — на малиновую подушечку, колыбельку поставили на плот — и отправили ее по реке, по Ахтубе, с глаз долой. Надька где-то выросла и вернулась. Так у меня появилась сестра, которой у меня не было.
Все смеялись над ней, а я любил ее больше жизни, она была лучше их всех, пусть и дура. Она лучше всех вас, говорил я, лучше!
— Надька! — говорю я и строю ей рожу.
— Марат! — кричит отец, поднимая голову от машины. — Прекрати дразнить Надю! Она упадет!
— Марат! Останови качели! — кричит мама. — Ей нельзя так высоко…
Я слезаю с крыши, останавливаю качели.
Надька медленно встает. Она идет покачиваясь, поддерживая руками большой круглый живот.
Мама пристально смотрит на Надьку, отворачивается, закрывает лицо рукавом и плачет.
Наша Надька — беременна.
2
Моя сестра Надька забеременела от тополиного семени.
Тогда пух летел как снег, с юга дул горячий ветер, и была жара и белая метель, пух прилипал к мокрой от пота коже, и все чесалось, и ей этим южным ветром надуло. Надьке ветром надуло, говорили, и живот ее осенью стал раздуваться, как воздушный шар, если его надувать насосом от велосипеда. И я решил посмотреть.
— Надька, разденься! — крикнул я, когда мы остались дома одни, я крикнул ей прямо в лицо, хотя она была глухая — глухая совсем, ни грамма она не слышала. — Глухая тетеря! Раздевайся! Дура! — кричал я ей. Она улыбалась дурацкой своей улыбкой, от которой хотелось зарыться с головой в дерьмо и разреветься, — я больно толкнул ее, я подталкивал ее к дверям и потом потащил за руку по осенним мокрым дорожкам сада, я впихнул ее в дощатый летний душ и закрыл дверь на ржавый крючок. Внутри пахло мочалкой. Надька вспомнила, что летом здесь купались и что надо раздеться, и начала медленно раздеваться, вешая на гвоздь зеленую шерстяную кофту, бордовый фланелевый халат, синюю мужскую трикотажную майку — я смотрел, — розовые байковые панталоны, панталоны сорвались с гвоздя, упали, большие, розовые, будто живые, в грязь, она, наклонившись, подняла, жалея их, встряхивая, оглаживая, вешала — я смотрел, — черные сатиновые мужские трусы, перешедшие ей от меня (я еще не отвык от них), будто это часть меня — так странно — чернела, распятая на розовом, мягком, байковом…
Она стояла поеживаясь, смотрела на серый квадрат неба, с неба шел душ — осенний, мелкий, холодный, бесконечный, — за серыми облаками — курлы-курлы — улетали невидимые птицы, а я смотрел на Надькин загорелый, кожаный, круглый, огромный шар ее живота с узорным следом от резинки — этот шар становился с каждым днем больше и больше, и я все боялся, все боялся, что натянутая кожа не вытерпит и лопнет, — но он все рос, этот шар, и я стал тайком ждать, что однажды в один из дней этот воздушный шар поднимет Надьку, мою сестру, туда, вверх, откуда идет дождь, туда, где курлы-курлы, — и она повиснет над нашим серым военным печальным городом и будет лежать в небе, как аэростат или как солнце, и улыбнется оттуда с неба своей дурацкой бессмысленной улыбкой, от которой хочется разреветься. И может, тогда наступит на земле жалость и счастье.
Под круглым животом у нее золотые волосы.
— Одевайся! — говорю я.
Она смотрит вверх на дождь и не слышит ни меня, ни птиц.
— Одевайся! — ору я. Я похлопываю ее по спине, лопатки из спины выпирают, будто острые крылья, кожа в пупырышках, как у гуся.
Она оборачивается, я протягиваю ей черные сатиновые трусы, растягивая резинку. Она понимает и вшагивает в них.
— Молодец, — говорю я ей, будто она слышит. Я всегда чего-то жду от нее. Я каждый день жду, что она вдруг услышит меня, или заговорит, или перестанет быть дурочкой. Мне всегда кажется, что вот сейчас… Или завтра… Это оттого, что я очень чувствую Надькину добрую прекрасную душу, на которую накинули зачем-то тупое глухое и немое тело, будто засадили в тюрьму, где ни звука, ни крика.
И еще я жду, когда Надька родит эту свою прекрасную душу — и она, эта душа, будет сильной, гладкоствольной, шелестящей, зеленой, растущей до неба, как тополь, от семени которого она забеременела.
3
— Пойдем в землянку, — говорю я Надьке, когда мы вышли из душевой.
Мы идем с ней в глубь сада. Там у нас выкопано убежище против атомной бомбы. Мы выкопали его с папой полмесяца назад. Папа копал большой лопатой, а мне дал свою — саперную. Мы рыли в воскресенье. В каждом дворе рыли тоже. Все ждали ядерной войны. Переговаривались через забор с соседями. Говорили о Кубе, о ракетах на Кубе, о Кеннеди, о Хрущеве, об Америке, о ракетном ударе, о том, кто ударит первый: они или мы. Мы жили в ракетном городе Капустин Яр и все ждали, что американские ракеты ударят в первую очередь по нашему военному городку.
— Ох, доиграется Хрущ! Вдарит по нам Америка, как пить дать вдарит! — говорил дядя Боря Синицын, наш сосед слева.