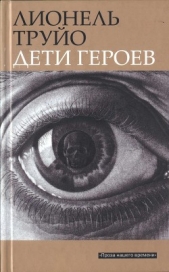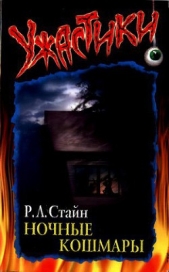Камероны

Камероны читать книгу онлайн
Р. Крайтон повествует о тяжком труде рабочих-шахтеров в Шотландии в конце XIX века, об их борьбе за свои права.
В романе «Камероны» нашли отражение семейные предания и легенды о жизни шотландских рабочих. Поначалу он развивается в жанре семейной хроники, повествуя о судьбе нескольких поколений шотландских шахтеров. Однако постепенно роман перерастает границы «семейного» жанра. История рабочей семьи становится частью истории, судьба Камеронов тесно переплетается с важнейшими социальными конфликтами эпохи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Больше всего Гиллону нравилось подниматься на поверхность. Он поистине наслаждался этим возвращением к жизни. По утрам он изучал небо, определяя, какой будет день, и потом всю смену в шахте представлял себе, как этот день шагает по земле. Выйдя из клети, поднимавшей их из глубины в три тысячи футов, он с неизменным радостным волнением смотрел на солнце, заливавшее землю, или на снег, накрывший ее, радовался даже и тогда, когда шел дождь и было холодно. И было у него такое чувство, точно это уже другой день, точно он урвал у жизни лишний кусок. И это примиряло его с шахтой.
Это – да еще баня. Гиллону нравилось залезать вечером в бадью. Мэгги сдержала слово и с самого первого дня их жизни в Питманго твердо блюла его. Хотя она вернулась на работу в школу компании, потому что никому не хотелось учительствовать и жить в Питманго, она умудрялась вовремя приходить домой и согревать воду для бани, так что к появлению Гиллона бадья с горячей водой уже ждала его. Большинство мужчин сначала шли в «Колледж» пропустить пивка или эля, а потом прямо в грязной рабочей одежде пили чай – таким, кстати, был и мистер Драм, – но не Гиллон. Избавившись от шахты, он спешил избавиться и от угольной грязи – в этом была его услада.
– А где мне раздеваться? – спросил он Мэгги в первый день после работы.
– Да здесь, прямо здесь, где стоишь, дурачок.
– Но ведь твоя мать дома.
– Ну и что?
– Тогда закрой хоть дверь.
– Это не имеет значения.
И в самом деле не имело, во всяком случае в Питманго. Это имело значение только для Гиллона, который не был приучен к слепоте. В ту пору он еще не знал насчет «запретного времени». С пяти часов вечера до половины шестого ни одной женщине в Питманго не разрешалось смотреть из окна или заглядывать в окна чужого дома, да и вообще выходить на улицу. Делалось это для того, чтобы мужчины в тех семьях, которые жили очень скученно, могли поставить бадью в проулке между домами, или на крыльце у распахнутой двери, или под окном, а то и в огороде, если позволяла погода, и вымыться там. Было и еще одно отступление от целомудрия – правило, которое усваивалось с колыбели: если тело покрыто угольной пылью, никто не видит твоей наготы. Мужчины, которые в других случаях постеснялись бы показаться на люди с голыми руками, ходили по дому совсем голые, покрытые лишь угольной пылью, и никто не обращал на это внимания. Угольная грязь делала человека бесполым – пол проявлялся позже, когда человек был одет. Сестры купали братьев, жены мыли мужей, а матери – взрослых сыновей. Мэгги была права: в Питманго это не имело значения. И все равно Гиллону неприятно было, когда ее мать стояла на пороге, и видела она его наготу или не видела, а только глаз не спускала с его необычно белого тела.
– Я же говорила тебе, какой он белый, – гордо заявила Мэгги.
– Будто король, – сказала мать.
– Да уж во всяком случае, не как здешние меднокожие обезьяны.
– И не как твой отец.
Руки ее скользили по его спине, по шее, и Гиллон, еще не привыкший к особенностям мытья в бадье, от прикосновения ее теплых, мягких, бархатистых рук, намыленных свежим остропахнущим мылом, почувствовал, что сейчас опозорит себя.
– Вставай! – приказала Мэг.
– Я не могу, – шепнул он.
– Да вставай же! Я должна отмыть тебе зад.
– Я… я не могу.
– Вставай, Гиллон!
– Убери ее с порога.
– А ну, уходи, мать.
Мать нехотя отступила к себе в комнату.
– Может, ему что скрывать надо, – услышали они ее голос. Затем намеренная пауза. – А может, ему и нечего скрывать. – И взрыв безудержного смеха.
Гиллон не мог не выругаться про себя – сука она, вот кто. Зато с тех пор, насколько он мог судить, она никогда больше не пялила на него глаза.
Именно во время мытья в нем и вспыхивала страсть. Он знал, как относилась к этому Мэгги – к самому акту: она считала это идиотским изобретением и всякий раз так и говорила, но предавалась она любви всегда с такой страстью, что это поражало Гиллона. Он знал, что вся улица сплетничает про них: надо же, занимаются любовью сразу после мытья, даже не попивши чаю. Том Драм еще из «Колледжа» не успевал приплестись – просто неслыханно. Но Гиллон ничего не мог с собой поделать. Какой бы тяжелый ни выдался у него в шахте день, все казалось терпимым, когда работа была позади, а впереди – еще целый новый день, и ты спокойно сидишь в бадье с теплой водой, чувствуя эти руки, скользящие по твоим усталым ногам, думая о том, что она будет принадлежать тебе и вечером, и ночью. Но вот настал вечер, когда она сказала: «Нет, больше не будем», – коротко, как отрезала, без всяких объяснений. Это так обидело его, что он сначала даже не поинтересовался почему.
– Что значит: «Нет, больше не будем»? – наконец уже ночью спросил он.
– А то, что теперь все.
– Нет, не все.
– У меня будет ребенок.
Он посмотрел на нее с таким чудным видом – лицо у него было такое удивленное, и счастливое, и одновременно огорченное, что она чуть не расхохоталась.
– Да неужели ты не чувствуешь, какое у меня брюхо? С чего, ты думал, меня так разносит?
Он все никак не мог прийти в себя от изумления. Он понимал, что должен радоваться, но чувствовал пока лишь разочарование.
– Значит, ты теперь не сможешь…
Она покачала головой. Он в этом ничего не смыслил и не знал, как спросить, кого спросить и о чем. А потому выбора не было: он ей поверил.
Так оно и пошло. Как только Мэгги чувствовала, что забеременела, всякая интимная жизнь у них прекращалась. И дело было вовсе не в том, что ей неприятно было этим заниматься, – просто ей казались нелепицей все эти позы, когда не разберешь, где чьи ноги, и эти вздохи, и шепот, и крик (а она была крикунья, что могли засвидетельствовать все, кто жил в Шахтерском ряду), и главное: все это – глупости, пустое времяпрепровождение. Никакой необходимости в этом нет, а раз нет, значит, это лишь зряшная трата времени и сил.
С этого дня – хотя Гиллон никогда не поставил бы в зависимость одно от другого – он начал изучать уголь. Он нашел книжку под названием «Учебное пособие по углю и его залеганию в угольном районе Западного Файфа» и, прочитав ее несколько раз, стал смотреть на уголь, как на нечто прекрасное и даже таинственное. Здесь, перед ним, в каждом куске черного камня, который он откалывал, таилось солнечное тепло, скопившееся за пять миллионов лет. Когда ему случалось рубить твердый пласт, он приносил потом кусок угля домой, бросал его сверху в очаг и смотрел, как высвобожденное им солнце вырывается из угля, вспыхивает синим и желтым огнем.
– Думается, вы понятия не имеете, какая это сказка, – сказал он однажды Мэгги и Тому Драму. – Думается, вы и не подозреваете, что это такое.
– Это зряшная трата доброго угля – вот что это такое, – сказала Мэгги. – Да поставь ты на огонь хоть что-нибудь, Христа ради.
Гиллон различал два вида угля, о чем он никогда никому не говорил. Мягкий уголь он воспринимал, как женщину, – это был уголь, не сразу поддающийся, а потом вдруг уступающий нажиму. Гиллон любил проводить рукой по этому углю, отливавшему мягким шелковистым блеском. А уголь твердый, с острыми гранями, холодный и сухой, без примесей, сверкавший чистым блеском под его киркой, он воспринимал, как мужчину. Этот уголь туго поддавался, но, откалываясь, разлетался на куски.
Еще до рождения первого младенца Гиллон обнаружил, что лишь тогда получает удовлетворение от работы, когда его ставят на выработку девственного пласта. Ему нравилось всаживать кирку в мягкую податливую стену, а потом видеть рядом такую гору шелковисто поблескивающего угля, что не хватало пони и бадей все это вывезти.
– Поостынь, Гиллон, – крикнул ему однажды Том Драм, – какой черт в тебя вселился?!
Гиллон даже не ответил ему – лишь с глухим стуком все глубже вгонял кирку в еще не тронутый пласт.
Ну и, конечно, это приносило денежки. Даже Гиллон под конец стал употреблять это слово – оно действительно было лучше, мягче звучало, мягче обозначало то, что лежало в кармане. Полюбилось ему также ходить каждые две недели к сараю, где выдавали жалованье, и получать свой конверт из рук Арчи Джаппа, которому очень нравилось выполнять ритуал вместо мистера Брозкока, когда тот почему-либо сам этого не делал.